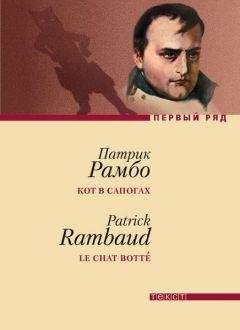— Я предчувствую сильную качку, — сказал Фрерон, садясь.
— Сильную что? — переспросила девица.
— Драку, — лаконично пояснил Буонапарте, испытующим взглядом обшаривая залу.
— Посмотрите на них, они все пришли сюда, чтобы помахать кулаками…
Девушка, опершись на обитый бархатом бортик ложи, вытянула шею, чтобы лучше видеть группу мюскаденов, занявшую центр залы. Тут подняли занавес, и стало относительно тихо. На сцене карикатурный мюскаден с мучнисто набеленным лицом, в гигантской шляпе, похожих на лупы очках, сползающих на кончик носа, и галстуке, топорщащемся на уровне губ, задекламировал, гундося:
— Я, когда вихозю из Пале-Рояля, полозительно делаюсь больным, уверяю вас!
— Тебя призывает Вандея! — возгласил в ответ фанфарон в костюме жандарма.
— Вандея? Какой ужас! А где это?
— Пусть эти шуты и отправляются в Вандею! — выкрикнул зритель из партера.
— В Вандею! В Вандею! — завыли его соседи.
Стул, брошенный откуда-то с балкона, оглоушил двух крикунов, и его падение стало сигналом к атаке. Полетели новые стулья, в воздухе замелькали шляпы, трости, башмаки, буржуа в своих ложах присели на корточки, прячась от метательных снарядов. Шайка мюскаденов заметалась по рядам, щедро раздавая кому ни попадя палочные удары. Сент-Обен первым вскарабкался на сцену, за ним последовала еще дюжина его приятелей. Он вырвал текст пьесы из рук суфлера, разорвал его, потоптал, а несколько разрозненных страниц швырнул в зал, не переставая орать:
— В Вандею кривляк!
— Долой привилегированных! Снова спасу от них нет!
Сент-Обен загорланил «Пробуждение народа», хор его сторонников подхватил, простолюдины в ответ звучно грянули «Марсельезу».
— Станислас, — шепнула девушка на ухо Фрерону, — этот молодой человек мне любопытен.
— Сент-Обен? Я его вам представлю, моя красавица.
— После спектакля?
— Если ему не наставят слишком много шишек.
— А может быть, вы пригласите его завтра к виконту? Я там буду.
— Если он захочет, приглашу.
— А вы, генерал, будете у Барраса? О, да он исчез.
Фрерон, в свою очередь обернувшись, заметил:
— Должно быть, баталии этого рода не представляют интереса для артиллериста.
Буонапарте ушел, как только появился полицейский комиссар секции Тампль со своей перевязью и пригрозил очистить залу. Представление все равно не могло продолжиться, его заменили брань, пение и палочные удары.
Ни малейшей приязни к французам Буонапарте не испытывал, а Париж просто ненавидел. Если посмотреть издали, столица со своим скоплением куполов и башен напоминала ему ощерившуюся пасть, увиденная вблизи, просто пугала. Проехав таможенную заставу, где теперь уже не требовали ввозную пошлину, вы увязали в черной липкой грязи, под ногами хлюпала зловонная смесь, тысяча ручейков — сточные канавки под открытым небом, жирные помои кухонь, — приходится брести по всему этому мимо межевых столбов из песчаника, за которые прячешься, отскакивая прыжком, когда на тебя вдруг несется стремительный фиакр, а о тротуаре и мечтать не приходится, его нет нигде, кроме как на улице Одеон. Улочки пролегали по причудливому следу былых тропинок, которые петляли, чтобы обогнуть дерево или поле, они были тесны и сужались еще больше в силу маниакальной склонности лавочников выставлять столики со своим товаром наружу для пущей наглядности. Дома обклеены объявлениями так, что стен не видно, повсюду фонтаны без воды и деревья Свободы, которые, не вынеся зимней стужи, торчали мертво, словно метлы. Следовало остерегаться бездомных собак, рыщущих стаями, тощих, грязных животных с глазами хищников. И негде спрятаться, приютиться. Тишины не найдешь нигде. Париж пропах мочой, черным мылом и грязью. Скобяная набережная воняет селедкой. В домах, на лестничных площадках, в коридорах — продолжение улицы, уединение существует лишь для богатых, прочие обречены терпеть чужие взгляды, шум, крики кучеров и торговцев, перебранки, скрип мельничных колес у Торгового моста, песни, этот затхлый дух, который так застаивается в домах, что, бывало, месяца три пройдет, прежде чем догадаются: гражданин Мик, продавец говяжьих голов, давно умер в своей каморке один-одинешенек; чтобы другие жильцы забеспокоились, его труп должен был прогнить вконец и привлечь множество тараканов…
В этой поганой дыре Наполеона душила ярость, он проклинал город с его оглушающей суетой, от которой честолюбцу не уйти. Что тут можно поделать? Куда денешься? Кто станет слушать такого хилого, скверно одетого брюзгу, злобного, как клещ, хотя, впрочем, если надо, и обольстительного, когда он поглядывает голубыми глазами на дам? Но в ту ночь, выйдя из театра, он устремил этот свой завораживающий взгляд на картину совсем иного рода.
Несчастные выстроились в длинную очередь у входа в еще закрытую булочную, чтобы через несколько часов быть первыми, когда станут выдавать их жалкую порцию черного вязкого хлеба. Буонапарте прикинул, сколько их, — пожалуй, около тысячи. Впрочем, они стояли в таких же очередях за маслом, свечами, углем — молчаливые, помятые, серые. Это были рабочие без работы, женщины без надежды, разорившиеся рантье, уже распродавшие свою посуду и мебель, служащие, потерявшие свои места в конторе или на фабрике. Только что одна из гражданок, не имея чем накормить своего ребенка, привязала его к себе и бросилась в реку. Таких, что ни день, находили в Сене, а то и просто на перекрестках, где они умирали от истощения. С тех пор как Робеспьеру пришел конец, у них больше не стало хозяина. Большинство якобинских вождей были выведены из игры. Каррье гильотинирован, Бийо-Варенн и Колло д’Эрбуа сосланы в Гвиану, Фуше вынужден скрываться из-за массовых убийств, которые он учинил в Лионе. Народ предпочитает побежденных, сказал себе Буонапарте, пусть даже дикарей, этим продажным правителям, по чьей вине он голодает.
Картофель за два месяца подорожал втрое, а цена на мясо выросла аж в семнадцать раз. Деньги существовали скорее условно: бумажные ассигнаты, которые Конвент печатал почем зря, годились разве что на подтирку, и если в марте луидор стоил двести пятьдесят франков, то ныне — уже тысячу. Зима выдалась суровая, Сена замерзла, дров и угля не хватало. Нужду испытывали буквально все, не считая окружения Барраса. Между тем в Париже скопилось много зерна, оно до отказа наполняло склады, бдительно охраняемые, но плохо проветриваемые: поскольку его туда засыпали отсыревшим в дождливую пору, оно сперва прорастало, затем начинало гнить. Ответственность за рост цен несло продовольственное ведомство: муку, которая очень дорого продавалась в Париже, везли затем в провинцию, чтобы сбывать там еще дороже. Это было известно. Это обсуждалось. Это рождало гнев. Граждане толковали о том, что ничего невозможно достать, о плутовстве спекулянтов и алчности торговцев, о неслыханных притязаниях земледельцев, требующих, чтобы им платили золотом.
Буонапарте подходил к этим группам, толпящимся посреди улицы перед опустошенными магазинами. Голоса звучали все резче, раздражение нарастало:
— Куда девается все это зерно, которое свозят в Париж? Что они там, правительство, с ним делают?
— Хранят на складах, чтобы кормить войско.
— Скажешь тоже!
— Надо с ними посчитаться, с этими негодяями!
— Слишком долго они нас дурачили!
— Уже год как хлеба не видим!
В глубоком раздумье подходя к своему дому, Буонапарте увидел женщину: стоя на четвереньках, она пыталась вырвать кость из пасти желтой собаки.
Так уж повелось в эту странную эпоху: смерть встречали без боязни, да и убивали без волнения.
Александр Дюма. «Спутники йеху», глава XXXIX
Буонапарте со своим адъютантом Жюно направлялись на улицу Нёв-де-Пти-Шан с визитом к Баррасу, когда столкнулись с целой оравой всадников, преградивших им дорогу. Оба догадались, что это военные, по их лихой манере красоваться в седле, держа руку на сабельной рукоятке, но было не понять, от какого они отбились полка. Только кожаные ремни и перевязи всадников отвечали воинскому регламенту. На них были куртки, обесцвеченные дождями, на головах трофейные вражеские шлемы, сабо вместо сапог или сапоги с картонными подошвами, подвязанные веревкой. Рослый усач без нашивок, хотя, должно быть, он был по меньшей мере капралом, обратясь к подошедшим, жестко сказал:
— Поворачивайте назад, граждане.
— Я генерал Буонапарте!
— Не знаю такого.
— Зато я знаю Барраса!
— Мне на это плевать.
— Он ждет нас.
— Это вряд ли.
— Пропустите их, — сказал Баррас, выходя из дому в мундире и со своим трехцветным плюмажем. Бонапарт, а за ним и Жюно устремились навстречу виконту: