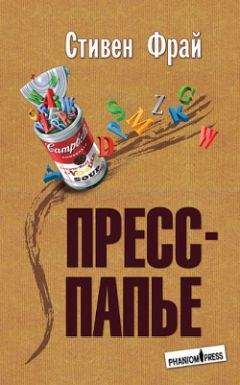— Нет, похож. Об этом может судить только тот, кто долго жил вместе с ним.
Мне любопытно было взглянуть на его последнее письмо. Такое письмо в определенном смысле можно рассматривать как прощальное. Это оказалась захватанная руками открытка. По адресу я понял, что Нана было настоящим именем женщины. На открытке стоял штамп одной из военно–морских баз на острове Кюсю, но писали ее, видимо, на передовой базе южного фронта.
«Дорогая сестра Нана! Наверное, теперь в Японии стоит прекрасная погода. Здорова ли ты? Дня три назад я видел тебя во сне. На мне была соломенная шляпа, а у тебя на голове красный платок. Вокруг паслось много коров и овец. Я вылетаю завтра утром. Будь здорова. Завтра мне как раз исполнится девятнадцать лет. Осаму».
Я изумился беспечному тону письма. Оно было написано радостно, будто сообщало о веселом пикнике. Я вспомнил себя в годы войны, и сердце мое защемило от боли. Сколько же молодых людей пошло на смерть вот так, беспечно, будто отправляясь на пикник!
— Я буду вам младшим братом, пока вам не надоест, — сказал я, глядя прямо в лицо Нана.
— Да? Я рада.
Нана положила руки мне на плечи и тряхнула меня несколько раз. Глаза ее сияли. «Надо уходить», — подумал я.
— А я думал, вы Сигэ, — признался я, вставая с софы.
— Кто это — Сигэ?
— Служанка. Давно как–то у нас в доме жила. Издали вы очень на нее похожи, а вблизи значительно красивей.
Нана громко засмеялась.
— Странно! Оба вспомнили похожих на кого–то людей.
В дверях я оглянулся.
— Знаете, у Сигэ сзади на шее был шрам после операции.
— Да? Не успокоишься, пока не узнаешь, что его нет?
Нана усмехнулась, взяла мою руку и сунула ее под волосы. Передо мной сверкнула алмазной белизной ее шея, от лица исходил какой–то прекрасный аромат. Тонкая шея Нана была совершенно гладкой.
— Ну как? Есть шрам?
Не отнимая руки, я взглянул ей в лицо и улыбнулся. Я уже не видел ее губ, лоб мой стал горячим.
— Спокойной ночи, — сказал я. Шлепая по полу босыми ногами в темноте столовой, я пошел к двери, ведущей в коридор. И, шагая, шептал сам себе: «Пусть не Сигэ, пусть не Сигэ!»
Нана снилась мне каждую ночь. Иной раз целыми днями я только и делал, что думал о ней. Не выдержав, трижды незаметно пробирался к ней в комнату. Нана задумчиво смотрела на меня, рассказывала о брате, а на прощанье целовала у дверей в лоб.
Когда я в четвертый раз прокрался в ее комнату, Нана оказалась очень пьяна. Она громко смеялась, хотя глаза ее были полны слез, и вдруг, вертя в руках пустую бутылку из–под виски, выпалила:
— Лучше умереть, чем так жить! — Потом сказала: — Я научу тебя танцевать, — и, прижавшись грудью к моему лицу, затряслась вместе со мной в танце. Когда я уже собирался уходить, в дверь постучали. Нана окаменела, затем быстро обвела комнату взглядом и, со страхом глядя на меня, дрожащим голосом пригласила:
— Come in!
Дверь отворилась, и в комнату грузно ввалился капитан М. Р.
— Джесси! — тихонько воскликнула Нана.
— О! — рявкнул он удивленно, увидев меня, и мы в третий раз злобно уставились друг на друга. — Ты как сюда пролез? — резко спросил он.
— Через дверь, которую вы на днях вышибли ногой, — мгновенно ответил я.
Брови его поднялись, он удивленно заморгал. Нана хотела что–то сказать, но он холодно взглянул на нее и рявкнул:
— Молчать! — Затем, заложив руки за спину, веско приказал мне: — Пошел вон!
Я взглянул на Нана. Она стояла лицом к окну.
— Сделай так, как велит Джесси, — сказала Нана пронзительным голосом.
— До свидания! — бросил я ей в спину и пошел.
— И больше не приходи! — крикнул в догонку Джесси.
— Разумеется, не приду, — сказал я, обернувшись, и торопливо вышел из комнаты.
В коридоре, закрыв за собой дверь, я долго стоял, прислонившись к ней спиной. Потом пошел в свою комнату и выглянул в окно. Света в комнате Нана не было. «Теперь уж вряд ли взгляну когда–нибудь на это окно», — подумал я. Весь вечер я промучился из–за Нана. Сначала я ничего не понимал. Потом малопомалу начал догадываться. А когда окончательно сообразил, в чем дело, на душе стало еще невыносимей.
Днем я носился, весь в поту, по стадиону под палящими лучами солнца. Вечером, купив в лавочке на окраине города дешевые сласти и пыльные фрукты, шел в парк, садился там под гинкго в кружок с четырьмя–пятью непутевыми приятелями и, отбивая такт ногой, орал во все горло военные песни. Так я выражал свое негодование тем, что Япония проиграла войну.
Однажды утром в начале лета я почувствовал вдруг сильную резь в животе. Меня прохватил кровавый понос, от которого просто темнело в глазах. Я обливался липким потом от страшной боли в животе, казалось, кто–то ворочает палкой в моих внутренностях. Я знал, что со мной случится что–то плохое! У меня странная способность предчувствовать беду. Поэтому, когда я кое–как добрался до знакомого врача и услышал от него название болезни, я ничуть не удивился. Учитывая положение моего дяди, родственники поместили меня тайком в одну из больниц города.
Там, в грязной палате, я и провел самый жаркий летний месяц. Это было своего рода спасением для меня. Я весь ушел в болезнь, ни о чем другом не думал. Я и вправду все забыл. А когда однажды вспомнил о Нана, меня чуть не вырвало.
Однажды глубокой ночью, когда дело уже шло на поправку, я встал с постели с помощью пожилой сиделки, чтобы сходить в туалет. В зеркале, висевшем на столбе у моего изголовья, я увидел отражение чьего–то лица. «Господи! Кто это? Что за жалкий тип!» — подумал я. Щеки ввалились, глаза казались огромными, величиной с кулак. Однако, приглядевшись, я понял, что это я сам и есть. Я мрачно смотрел на свое изменившееся лицо. И тут лицо в зеркале куда–то отдалилось, и я потерял сознание. Сколько длилось мое беспамятство, не знаю, только когда я очнулся, то увидел, что лежу на полу, раскинув руки, а подо мной беспомощно барахтается пожилая сиделка. Поднявшись, я взял градусник, чтобы померить температуру. Он мелко дрожал в кончиках моих пальцев, и я увидел, что толстая красная нить протянулась от отливающего серебром конца градусника. Я поспешил стряхнуть его. Сиделка спросила, сколько набежало, но я не мог ответить. Наверное, легкий спазм мозговых сосудов, сказала женщина.
Я лежал с горячей головой и рассеянно глядел на черный потолок. С потолка свисала тусклая лампочка. Черный потолок с ужасающей скоростью уносился вверх, уменьшаясь до крохотного квадрата, а затем стремительно падал вниз и накрывал всю комнату. Он становился все больше и больше, с каждым разом опускался все ниже и ниже, нависал надо мной… «Умираю», подумал я. И тут впервые за время болезни вспомнил о смерти. Неужели вот так и умру? Умереть от болезни! Это что–то совершенно новое. До сих пор мне и в голову не приходило, что такое может случиться. Более жалкой смерти и не придумаешь! Комок подступил к горлу.
— Тетушка! Карандаш и бумагу, — попросил я.
С трудом перевернувшись на живот, я на обороте клочка бумаги, похожего на рецепт, карандашом, показавшимся мне странно невесомым, нацарапал: «Не хочу умирать».
Сжимая карандаш в руке, растерянно огляделся вокруг. Какие это были кощунственные слова! И все же они шли из глубины души. Что же еще написать напоследок? Вцепившись покрепче в скользкий карандаш, я добавил еще одну фразу: «Глупая Нана».
Я недоуменно глядел на эти две строчки. Что это? Мне нечего сказать? В глазах у меня потемнело, карандаш выпал из руки, голова тяжело уткнулась в подушку.
Если подумать, то я ведь ни одного дня не жил спокойно с тех пор, как кончилась война и жизнь и смерть поменялись местами. Я лишь глазел вокруг, качаясь на волнах жизни. И тут из глубины моего потухшего сознания вдруг яростно, как никогда прежде, донеслось:
Я хочу жить!
Я буду жить!
Спасите меня!
К счастью, я выкарабкался из болезни. Потом прошло семь лет. Это были годы позора и раскаяния, но с тех пор и поныне мне никогда не приходилось видеть чье–либо предсмертное письмо или писать его самому. А ведь это же счастье!
I
Ресаку не думал, что Хидэ, его младшая сестра, так серьезно отнесется к его приглашению и сразу же приедет в Наори. Он хотел лишь вселить маленькую надежду на будущее в сердце сестры, уже невесты, которая осталась одна в глухой деревне подле больной матери. «Не выберется ли она как–нибудь к нему в город с ночевкой — передохнуть от деревенских забот?» — написал он ей. Слова эти, подумал он, как–то ободрят сестру, у которой не было никаких радостей в жизни.
Однако от Хидэ тотчас же пришла открытка. Она сообщала, что матушка отпустила ее в город на один вечер и она выезжает в субботу утренним поездом. Это было полной неожиданностью для Ресаку. Он даже слегка растерялся, хотя сам же и пригласил сестру.
Растерялся он не потому, что приезд Хидэ доставил бы ему какие–то неудобства. Она бы нисколько не стеснила его. И все же внезапное появление сестры, неотлучно находившейся в деревне у прикованной к постели больной матери, напугало его. Уж не сбежала ли она потихоньку из дома? И не разбудил ли он в ней ненароком своенравного ребенка? Вот что всполошило его.