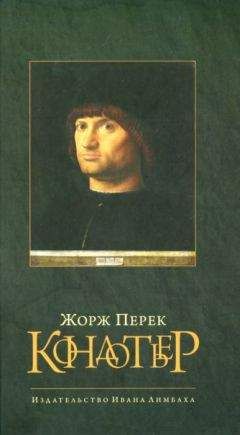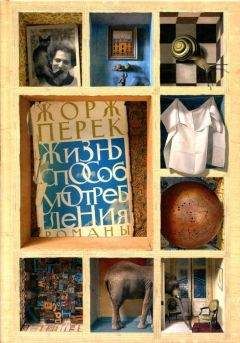И вот сейчас твоя жизнь в твоих руках, ты — как еще никогда — увяз по шею в своей истории, запутался в воспоминаниях. Со слезами на глазах, умиляясь собственной слабости. Но ты ведь прекрасно знаешь, что все происходило не так. При чем тут жалость? Ты хотел быть тем, кем стал. Ты стал тем, кем хотел быть. Ты принял свой удел, от начала и до конца, полностью, не потому что тебе следовало на что-то согласиться, стать жертвой обстоятельств, а наверняка потому, что ты организовал свою жизнь, работу, досуг так, как это могло тебя больше всего удовлетворять. Ведь не Жером тебя увлек, а ты последовал за ним…
Какое это теперь имеет значение? Да, все испорчено. Да, он все испортил. Он принял мир, выбрав самый легкий путь. Он думал отолгаться. И лгал. Выстроил свой социальный статус на лжи. А дальше? Он хотел сбежать, но было слишком поздно…
На высоте трех тысяч метров, между Белградом и Парижем, возможно, над Базелем или Цюрихом, возможно, над Альтенбергом, родилось спасительное, но слишком долго взвешиваемое решение покончить с фальшивками и уехать с Женевьевой. Сначала они отправились бы на Балеары, затем в Соединенные Штаты. Он зарабатывал бы на жизнь как реставратор. Но он не предупредил Женевьеву. Не ответил на ее последнее письмо двухнедельной давности. Из Женевы, во время пересадки, отправил телеграмму. Но в аэропорту Орли его ждали только Руфус и Жюльетта, которые повезли его к себе на вечерний коктейль. Там он встретил Жерома. Потом Анну, Милу и Николя. Потом Мадеру. И Женевьеву…
Она сразу ушла. Он даже не поговорил с ней. Стоял как вкопанный. Гаспар, прибитый к полу. Больше он ее не видел. Спустя год-полтора — этот ночной телефонный звонок…
Она не ответила. Должно быть, вздрогнув, проснулась. Попыталась сообразить. Кто мог звонить в такое время? Подождала. Потом решила, что не встанет, не подойдет к телефону, но продолжала вслушиваться, возможно, просчитывать; все же встала, помедлила, зажгла свет, подошла к телефону, помедлила, зачарованная звонком, помедлила, протянула руку, поднесла к трубке, не решаясь ее снять, а потом бросить… Возможно, он не ждал так долго, возможно, сдался, не выдержав регулярной последовательности гудков, каждый из которых словно подчеркивал тщетность этой последней попытки. Гудок. Тишина. Резкое потрескивание, там, на другом конце Парижа, здесь, у самого уха. Как ее, должно быть, успокаивала эта терпеливость, эта бесполезная настойчивость… Иногда мне кажется, что я понимаю тебя без слов, понимаю во всем, от начала и до конца… Что бы случилось, если бы она сняла трубку, ответила, согласилась увидеться с ним? Через сколько времени он смог бы добраться до Дампьера? Был ли он свободен? Был ли он скован?
Спустя год-полтора этот ночной телефонный звонок. Безумный телефонный звонок.
Машинальный, почти машинальный жест, каких, в общем-то, немало; десятки и десятки цифр, десятки и десятки букв набираются одна за другой. И все тот же неизменный страх. Все то же нетерпеливое ожидание вырываемого у пространства разговора, которое в причудливой взаимосвязи приводит в действие целый мир кабелей, линий передач, тысячи скрупулезных и бесстрастных телефонисток в наушниках, километры проводов, сплетающих вокруг земного шара не столько покров вечного шепота времени и истории, сколько обнадеживающую сеть его возможного освобождения, зависящего лишь от отказа или принятия себя, своего удела, своей судьбы. Этот последний оплот свободы; простые выверенные жесты совершались один за другим, соответствовали электрической точности соединения схем, а еще и тому, что могло бы стать, внезапно и окончательно, его бесспорной победой над миром… В — А — В — 1–5 — 6–3. Все становилось возможным, во второй раз, еще один раз, как бы нелепо это ни казалось, просто потому, что в доме на улице Ассас Женевьева проснулась, Женевьева услышала. Но звонить надо было не ей.
Он заказал машину от Гштада до Лозанны, самолет от Лозанны до Парижа и такси от Орли до авеню де Ламбаль. Он приехал в три часа ночи. Поставил чемодан в прихожей. Снял плащ. Подошел к телефону. Сначала думал позвонить Руфусу, объяснить свой внезапный отъезд, затем — Мадере, объявить о том, что бросает работу и завязывает с фальшивками. Но набрал — непонятно почему — номер Женевьевы…
Уезжая из Гштада, ты действительно ехал к ней? Отвечай, не лги! Чего ты хотел? Ты долго ждал. С каждым безответным гудком рушился мир. Уходили под воду материки. Потоки лавы. Цунами. Что оставалось? Она не отвечала. Ты повесил трубку. Снял пиджак. Ослабил галстук. Посмотрел на часы. Пошел на кухню. Выпил стакан воды… Лег спать, проснулся, позвонил Руфусу в Гштад. Оделся…
Он доехал на такси до вокзала Монпарнас. На другом такси — от Дрё до Дампьера. Отто открыл ему, не выказывая удивления. Мадера принял его в своем кабинете. Он объяснил Мадере, что достаточно отдохнул и вернулся закончить Кондотьера, который будет готов в течение недели. Спустился в лабораторию. Снял матерчатый чехол, предохраняющий картину. Посмотрел на Кондотьера…
Ты проделал все эти движения, ты прожил все эти мгновения. Помнишь? Это произошло три дня назад. Все еще было возможно, помнишь? Ты этого хотел. Ты ждал и с каждым последующим гудком клялся себе, что перестанешь дозваниваться, но продолжал ждать и обещал себе, что стоит ей снять трубку — даже если она тут же бросит ее, даже если не станет с тобой разговаривать, — ты позвонишь Мадере. Но она так и не ответила. Она не сделала даже самого малого. Не сделал этого и ты. Хотя все было так просто. Простой телефонный звонок…
Алло, соедините меня с номером 15 в Дампьере, в департаменте Эр и Луар. Алло. Говорите. Это Винклер. Здравствуйте, мсье. Здравствуйте, Отто. Позовите, пожалуйста, Мадеру. Хорошо, мсье, сейчас. Километры проводов, сплетающих вокруг земного шара обнадеживающую сеть его возможного освобождения. Мадера, я остаюсь здесь, я больше не вернусь. Идите вы куда подальше, и всю свою компанию прихватите с собой. Отбой.
И что? Ничего? Ничего, кроме признания в собственном бессилии? И окончательной уверенности в том, что это тупик. Что делать? Куда идти? Продолжать. Продолжать зачем? Продолжать для кого? Идти на это ради чего? Какое имеет значение, сняла она трубку или нет? Какое имеет значение то, что он решил вернуться и завершить Кондотьера? Какое имеет значение то, что мастерская в Дампьере — как и прочие, на Цирковой площади, в Гштаде, в Сплите, в Париже — стала тюрьмой, замкнутым кругом его противоречий, ярким символом его бесполезной жизни?
Бесполезной. Главное слово произнесено. Что он создал в Женеве, Роттердаме, Гамбурге, Париже, Лондоне, Танжере, Белграде, Люцерне, Сплите, Дампьере, Триесте, Берлине, Рио, Гааге, Афинах, Алжире, Неаполе, Кремоне, Цюрихе, Брюсселе? Что он оставит миру? Какой образ себя?
Что останется после него? Ничего. Пустота. Хотя в любой миг он мог найти какой-то выход. В любой миг мог поверить, что может отказаться…
Это ведь неправда? Ты не мог отказаться. Ты и не отказывался. Ты мог только соглашаться. Тебя держали на поводке, ты был волен следовать за ними. Ты не мог ничего себе приписать. Ты не мог делать ничего, кроме того, что делал: украшения, оправы, статуэтки, ложные имитации, подложные репликации, фальсификации…
Двенадцать лет. Двенадцать раз по триста шестьдесят пять дней. За эти двенадцать лет он один, в полном одиночестве — таясь по подвалам, чердакам, бункерам, пустым мастерским, заброшенным домам, ангарам, гротам, закрытым галереям — продумал, подготовил, изготовил и оформил сто двадцать или сто тридцать поддельных картин. Целый музей. От Джотто до Модильяни. От Фра Анжелико до Брака. Целый музей, лишенный души и плоти.
Гаспар-фальсификатор. Гаспар Теотокопулос по прозвищу Эль Греко. Гаспар де Мессина. Гаспар Соларио, Гаспар Беллини, Гаспар Гирландайо. Гаспар де Гойя-и-Лусьентес. Гаспар Боттичелли. Гаспар Шарден, Гаспар Кранах Старший. Гаспар Гольбейн, Гаспар Мемлинг, Гаспар Массейс, Гаспар Флемальский мастер. Гаспар Виварини, анонимный Гаспар французской школы, Гаспар Коро, Гаспар Ван Гог, Гаспар Рафаэль Санти. Гаспар де Тулуз-Лотрек. Гаспар ди Пуччо по прозвищу Пизанелло…
Гаспар-фальсификатор. Ремесленник-раб. Гаспар-фальсификатор. Почему фальсификатор? Как это, фальсификатор? С каких пор фальсификатор? Ведь он не всегда был фальсификатором…
Мерный покой. Вереница дней. А потом счет пошел на часы, и я ощутил их бремя. А потом — все эти происшествия, события, вся эта авантюра, история, судьба, карикатура на судьбу. Бесполезный жест или шаг вперед? Не считая хаоса, смерти Мадеры, это, возможно, во всей его неописуемой спонтанности, первый жест демиурга.
Опускается ночь. Руфус не приехал. У тебя еще есть шанс. Стоит только ускользнуть от Отто. Отто глуп. У тебя болит рука. Ничего, продолжай, камни уже наполовину расшатаны. Все это тебя достало. Знаю. Ничего не поделаешь. Скажи себе: это что-то вроде спорта. Вроде соревнования. Гонка на время. Словно вырезаешь барельеф. Скажи себе: уж лучше где угодно, чем в этом подвале. Хотя ты не очень-то в это веришь. Ну и плевать. Плевать, еще раз. Не говори «плевать». Не плюй в колодец. Не плюй в Калло. Лучше «Жница» в руках, чем «Жертва Авеля» в облаках. Вспомни, это твой девиз. Тебе нельзя останавливаться. Ты уже близок к цели. И даже если. Долбить или дожидаться, пока. Ты пытаешься себя убедить? Нет. Да. Я тебя знаю. Ты себя знаешь. И даже если. Сколько раз ты ударил молотком? Сто тысяч раз? Миллион? Двести пятьдесят? Не помнишь? Хороший признак… Я скажу тебе одну вещь, дружок. Очень скоро мы с тобой отсюда выпорхнем, как феи. Да? Дадим деру. Представляю, какую рожу скорчит Руфус…