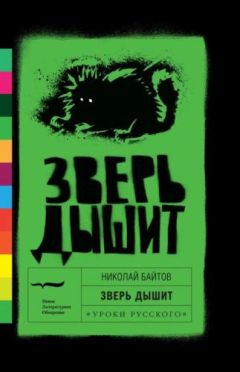Пьянство и онанизм, доводящие до полного великодушия… «Я, собственно, не гоню его со света, — продолжал Миша свои невесёлые размышления, — я только из жалости желаю ему смерти. Это лучшее, что можно ему пожелать».
Да. Наши мёртвые нас не оставят в живых.
Холодная с кладби́щ погода разносит хлад по всей стране.
Вот внизу свисает могила — там десять распятий положено.
Купив газету, Миша почувствовал пружинистую бодрость. В метро по ступенькам он сбежал, чуть не подпрыгивая. Он ехал на бульвар Сен-Жермен, где по пятницам в десять утра было заведено у них с Сергеем Окосовым пить кофе в кафе «Lipp», обмениваясь впечатлениями, которые каждый счёл для себя значимыми за неделю. Иногда они сговаривались поехать куда-нибудь вместе — в субботу или в воскресенье. В остальное же время они не виделись и не звонили друг другу.
«Узнавание тебя в твоих стилистических выкрутасах, — думал Миша, — пересекается и резонирует с узнаванием тебя в твоих поступках, жестах, эмоциях и — шире — в твоих тематизациях реальности. Поэтому в данном случае такое „узнавание“ играет ещё иную, весьма важную роль — верификационную. Получается интересный эффект: твоя манера письма как бы дополнительно удостоверяет (меня) в том, что всё, что я читаю, это есть твоя натуральная жизнь без каких-либо искажений и выдумок, — и от этого интерес чтения возрастает, быть может, десятикратно…
Однако начав говорить о „тяжеловатости“ повести, я отвлёкся. А между тем.
Попробую выразить это ускользающее впечатление…»
Долго сопя, прокашливаясь, прочищая горло.
На исходе этой главы мы стоим в окончательной беспомощности.
Это уже что-то. Какое-то достижение.
«Мысли, в самом деле, не скажу: точны, взяты походя из ряда промежуточных аффективных состояний, врут».
Скользящее, воспринятое тенью, разбавленное мутью просветлённой.
Никому ничего объяснять.
Пронизываю мыслью отдалённой расплывчатую ткань стихотворенья.
«Открой человеку тайну, — думал Миша, садясь за столик на террасе, — он её тотчас разболтает себе подобным. Сначала научись молчать, а уж потом проси, чтобы тебе открылось».
«А зачем же Господь, — возразит на это Окосов, который подойдёт через минуту, — зачем же Господь научил меня письму и поэзии — и подрядил меня туда?»
Ломка поэтического проекта. В который раз.
Сильно сказано. Танки клопов не давят.
Мы замерли на вечном фоне бегства.
Разнообразие состояний — где его возьмёшь?.. Ладно, ещё здесь посижу.
Так, восстанавливая в памяти непроходимые области событий, думаешь, что единственным состоянием, которое могло тебя сохранить, был анабиоз — или даже нечто вроде тех спор, в которых жизнь, сократив себя до схемы, до сухого информационного кода, пересекает мёртвые физические или исторические зоны. Однако это неверно. — Вот статья, удачная, интересная и какая-то светлоэнергичная, написанная (вдруг это выясняется) именно где-то в средоточии того нравственного разгрома… и — что самое невероятное — не только никак не связанная с ним тематически, но даже не несущая никаких его следов, бликов в своём стиле и тоне. Мало того — вот цикл отличных стихов, — эти, конечно, и перекликаются, и отражают, но они сделаны, построены, — а уж кому как не мне знать, чем достигается эта построенная стройность, какого бесстрастного отношения к предмету она требует. Кто души нищие ловил на блеск красноречивых знаков, тот, без сомнения, козла бы и то успешнее доил. Я всегда был антагонистом поэтов мутных, то есть таких, которые, как мне представлялось, не могут творить иначе, как погружая процесс в своего рода «биологический бульон», состоящий из их собственных кишащих чувств, — бульон, в котором бы стихи заводились как бы самопроизвольно, без участия авторской воли — подобно плесени или грибку. Одобрительно, друг мой Миша, это называется «искренность», но что толку в твоей искренности, если ты сам — внутри — неясен и бесструктурен?.. Пожалуй, единственное исключение из этого правила неприязни я делал — ну, ты догадываешься, для кого, — конечно, для нашего «безлошадного дяди Пева». Ну, это долгий разговор. Потом когда-нибудь мы доведём это до ума, если это вообще нужно. Хотя почему бы и нет?..
Да мало ли? — А твой приснопамятный семинар на Ярославском шоссе, который я посещал в то время, невзирая на глыбы, которые, казалось, расплющивали меня и вместе с тем превращали окружающее пространство в камень, где почти нельзя повернуться, где попытки движения одна за другой пресекаются мгновенными ударами боли и быстро гаснут — к нулю. Однако же тот семинар я вспоминаю с особой отчётливостью, словно была свобода и ясность в моих движениях, — ясность, подобная той, в которой, по свидетельству людей, переживших опыт физической смерти, обнаруживает себя душа, покинувшая неподвижное тело: в самом деле, она перемещается уже не в плотных материальных слоях, и природные законы не ограничивают диапазон её возможностей; она смотрит не физическими глазами, и атмосфера не туманит облик предметов… Но, в отличие от души, временно освободившейся, я плохо зафиксировал «себя самого», то есть своё тело, безжизненно лежащее. —
Начнёшь, презрев комфорт,
разъяв капкан престижа,
блуждать среди теней
во временах богемных…
Что именно происходило со мной в той плотной среде? — Оглядываясь и возвращая в память свои состояния, я путался в последовательности событий,
в дымах и облаках на чердаках Парижа,
в чумных пирах,
в иных мирах,
подлунных и подземных.
В последовательности событий, умерщвлявших меня, я путался. Очертания их смыслов сливались в безо́бразную лавину, которая — и это было в реальности, хотя казалось невероятным, — сдавливалась иногда на таком малом участке времени, проносясь сквозь него, что смыслы громоздились уже не друг на друга, а друг в друге, нарушая представления топологии о внутреннем и внешнем (заодно нарушая представления классической механики о причине и следствии). Тело души от одновременного удара со всех сторон превращалось в единый цельный синяк.
…И вместе с тем
меж серых стен,
больничных и тюремных.
Более или менее достоверно я сумел восстановить только одно — совершенное прекращение каких-либо желаний, движений воли и — твёрдую, как опухоль (изнутри) размером во всё тело, — невозможность жить дальше…
— А ты ещё расскажи, Серж, как ты был на зоне.
— Я никогда не был на зоне, ни в одной из моих жизней… И я знаю, с кем ты меня путаешь: это Созонт был на зоне. Как говорится, получил гонорар — поезжай в Магадан… Он не любит рассказывать. А я, в принципе, про больницу мог бы рассказать. Но зачем?
Присаживаемся. Работаем.
Даты не важны. Опускаю. Они всю жизнь одни и те же.
Серж любовно взглянул на свою правую руку, обтянутую чёрной перчаткой. В этот момент мне показалось, что он часто видит эту руку во сне. Точней — сам находит её взглядом. Это непросто сделать, но он научился.
— А что было причиной вашей с маркизом дуэли? — спросил я, хотя ответ был мне хорошо известен (как я думал).
— Женщина, друг мой, — охотно отозвался Серж. — Женщина, которой мы обладали оба. И настолько сильно каждый из нас к ней привязался, что мы перестали выносить друг друга.
Серж знал, что я знаю (уж сколько было об этом говорено). В его ответе светилась культурная снисходительность, приметы которой я мог бы подчеркнуть, если б они не были и без того заметны.
Мы без конца говорим об одном и том же. Вопросы и ответы не приносят откровений, зато с их помощью выражается любовь или, по крайней мере, симпатия друг к другу. Видимость заботы. Речь это фатическая, а не для обмена информацией отнюдь.
Идите мимо в своих событьях. Я безвопросен, вы безответны.
— О, — поднял я бровь, — женщина? А я знаю её имя? Извини.
— Имя относится к сущности, как гость к хозяину, — возразил Серж беззаботно. — Наверняка ты слышал. О ней много говорили. Мёртвые женщины завидуют живым. Удобное объяснение — «блядь», — дабы не вдаваться в смысл протекающей в ней (подлинной) жизни. Оценочное, но ведь и завистливое — от этого никуда не денешься… Но дело немножко в другом… Солнечная блядь. Случай нас разлучил… Случилась конфетка проекта, и скучно всем стало вокруг… Перформанс и его результат. И вот результат… — Обычная задача на экзамене по теории вероятностей: «Рассчитайте вероятность солнечного восхода». На первый взгляд, задача тривиальна: вероятность солнечного восхода равна единице, поскольку законы Ньютона, описывающие поведение Солнечной системы, детерминистские и вероятностный аспект в них вовсе отсутствует. На второй взгляд, эта задача невообразимо сложна: для того чтобы хоть как-то робко приблизиться к ней, надо концептуально очень чётко определиться: заявить, что такое вероятность и как её следует рассчитывать (а на этот счёт мнения есть разные)…