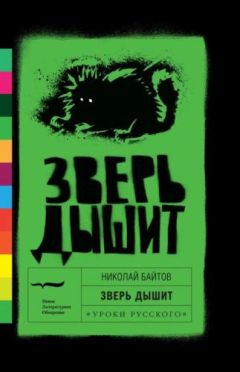— Э-э… простите… доброе утро… а Игорь где?
— Игорь? — не поняли мы.
— Это восьмое купе?
— Да, восьмое.
— Ну, с вами едет человек, художник… Забыл у меня мобильник. Поставил на зарядку и забыл… Он едет на фестиваль какой-то… Вы на фестиваль едете?
— Да, — мы переглянулись. — Мы едем. Вот — нас трое. А разве кто-нибудь ещё туда едет?
Мерц удивлённо оглядел купе. (Сосна ещё спал.)
— А на четвёртом месте кто?
— Никого. Четвёртое так и было пустое с самой Москвы. Может, вы напутали? Он сказал, что здесь едет?
— Да. В восьмом купе.
— Странно, — сказал я. — Кто это мог быть?.. И он нас знает?
— Ну да, вроде…
Света взяла у Мерца мобильник и заглянула в контакты.
— Смотри-ка, — показала мне, — тут и мы с тобой!.. И Элмар… И ещё куча народу…
— Очень интересно! А как он выглядит?
Мерц кратко описал.
Света посмотрела на меня.
— Похоже на Соловьёва… — сказала она тихо.
— А кто этот Соловьёв? — спросил Мерц, почуяв неладное.
— Художник, да, — вздохнул я. — Наш друг. Только его здесь быть не могло никак. Он умер год назад.
Света положила мобильник перед собой на столик и взяла свой. Отыскала соловьёвский номер, набрала. Телефон на столике зазвонил.
ВРЕМЯ, ИНТЕРВАЛ, СМЕРТЬ, СКУЧНО
Когда я читаю рассуждения Адольфа Грюнбаума о метризации времени, мне вспоминается поговорка, бытующая в русских застольных компаниях: «Между первой и второй перерывчик небольшой».
Я вовсе не хочу сказать: «вспоминается, увы» — напротив, я сказал бы: «вспоминается, к счастью».
Мне кажется, что это неуловимо-изящное выражение: «перерывчик небольшой» — схватывает метрику времени живей и точнее, чем вся расплывчатая пятисотстраничная книга Грюнбаума.
«Если считать верными рассуждения Эддингтона по поводу банального смысла конвенциональности в понимании Римана и Пуанкаре, то из таких же аргументов могло бы следовать, что формулирование Эйнштейном конвенционального характера одновременности является не более чем изложением в напыщенном стиле поверхностного соображения о том, что неопределённое слово „одновременный“ можно использовать, как нам нравится».
Дело не в том, что я русский, а Грюнбаум немец. У англичан, например, тоже есть соответствующее выражение: «оксфордская пауза». Это интервал между первой и второй рюмками, выверенный, пожалуй, до десятых долей секунды.
«Когда в непрерывных многообразиях физического времени интервалам приписывается отношение равенства, для соглашений всё же остаётся известное поле…»
А у нас ещё так говорят (тост): «Выпьем по второй, чтобы первой одной не скучно было». Здесь возникает ещё один смысл. — Временной интервал, за который становится «скучно», является, быть может, фундаментальной (и внутренне присущей) метрикой человеческой жизни.
Ещё важно то, что это выражение — «перформансное», то есть связано с действием (а действие уж точно совершается во времени и, стало быть, может помещать в него некую размеченную шкалу… — Как размеченную? —).
Если «оксфордскую паузу» можно определить точно и выдержать всегда одинаково, то с интервалом времени, протекающим между рождением и смертью, так поступить нельзя. В жизни много раз становится скучно, и эти интервалы имеют тенденцию к сокращению, если измерять их в секундах (то есть либо они сокращаются, либо секунды растягиваются — в зависимости от того, что из них считать метрикой).
Это соответствует примерно такому замечанию Грюнбаума: «В качестве стандарта временно́й конгруэнтности используется средняя солнечная секунда. Однако при этом возникает некоторое расхождение между данными, предсказанными теорией, и теми, которые фактически наблюдаются. Приходится сделать выбор: либо изменить принципы небесной механики в соответствии с наблюдаемыми фактами, либо изменить метрику временно́го континуума, применив более сложную дефиницию конгруэнтности. В последнем случае солнечная секунда должна быть заменена единицей, с которой она соотносится нелинейно, а именно звёздным годом, то есть периодом обращения Земли вокруг Солнца, в котором учитывается гравитационное влияние других планет».
Задумаемся, между тем, — а что есть «скучно»? — Если взглянуть сразу наиболее в корень, то «скучно», пожалуй, — сохранять идентичность. Сохранять её (из последних сил?), пока не-…Вот это «пока» претендует, похоже, на первое место среди всех возможных метрик времени. Твоё время квантуется «идентичностями тебя» — так получается…
Так что же? — выходит, первую и вторую рюмку выпивают два разных человека? — В каком-то смысле данет, это уж слишком, я призываю не придираться к словам. Кванты, может быть, не такие совсем маленькие. Тем более, что первая рюмка заскучала не от собственной идентичности, а в более житейском смысле — от обыкновенного одиночества.
Безусловно, самая радикальная потеря идентичности происходит, наверное, в момент смерти… — Так «безусловно» или «наверное»? — Безусловно, она радикальная. Но неизвестно, применимо ли к ней слово «потеря». Её, наверное, нельзя поставить в один ряд с теми обыденными пертурбациями, которые переживает человек в течение жизни. Если она и смена, то иная.
Можно подойти с другой стороны. — Задай себе, например, вопрос: «Как долго меня что-нибудь удивляет? Как долго оно ново для меня?» — Возможно, этот интервал и есть настоящая (естественная) метрика твоего времени… «Моя жизнь не перестаёт меня удивлять (преподносить сюрпризы)». — Или уже перестала?..
«Ещё хорошо, — пишет Грюнбаум, — что мы живём в такой области Вселенной, которая далека от термодинамического равновесия. Если бы мы могли долго находиться в состоянии глубокого космического равновесия, это было бы невыразимо скучным занятием вплоть до утраты нами чувства времени». — Прекрасно. Но, во-первых, в равновесных областях сама жизнь невозможна, а во-вторых, при утрате чувства времени невозможна и сама скука.
Мы не представляем, как смерть будет отрефлектирована нашим сознанием. Ведь при всех «житейских» сменах наше сознание сохраняло какую-то долю идентичности, порой значительную. Образно говоря, менялся-то в основном «имидж». В смерти же что и как будет — никто не знает. Может быть, как у бабочки: гусеница окуклится, а может быть, из личинки вылущится новое имаго… А если (упаси Боже!) за смертью последует метемпсихоз — вот уж тогда от идентичности нашей останется круглый ноль. Тогда совсем станет жить не скучно!..
При всём том, я, кажется, понял, почему не могу писать «длинную» прозу, — у меня малая временная метрика. Мне быстро становится скучно, и я теряю идентичность — себя (как автора), а далее — и стиля, и самого проекта. Конечно, можно, не останавливаться и продолжать письмо, что я и делаю иногда. Но, вообще-то, «произведение» требует идентичности автора с начала и до конца — так, наверное, полагается… А уж если прервался (наскучило), а потом продолжил текст через много лет — заведомо другим человеком, — да ещё если это происходит с одним текстом несколько раз, то что же получается в результате? — Какой-нибудь «Если вы спросите» — Я не знаю, сколько в нём «авторов». Кому-то, в каком-то смысле, может, и интересно его читать, но я не имею об этом представления, даже догадок, сколько-нибудь конкретных. А ведь речь идет о тексте совсем не таком уж длинном… Хотя… Если моя метрика очень мала, то она, возможно, уложится там не меньше раз, чем временны́х «страниц» укладывается в толстенный роман.
Между тем с помощью метода определения длительности невозможно определить, чем является длительность «сама по себе». Но не постигаем ли мы значение слова «длительность» по мере усвоения того, как она измеряется? — Что-то в этом роде.
«Карманный роман» и «громадный роман» могут быть одним и тем же романом, не так ли? — «Комариный мрак», ночь, наполненная комарами, верней не «наполненная», а состоящая из них, как из мельчайших песчинок. — Что-то в этом роде. — Укусы всех комаров в твоей жизни ты можешь считать одновременными.
Некоторые временны́е свойства физического мира мы желаем объяснить на основе его причинных свойств, не так ли? Но человеческий организм сам принадлежит этому миру. Значит, причинные акты нашего вмешательства (даже в том случае, если они обратимы), на которые опирается проверка теории Эйнштейна — Минковского, будут подчиняться временно́му порядку. И при их практическом выполнении они потребуют от нас, организмов, обладающих сознанием, опираться на наше психологическое чувство времени. — Вот оно что, оказывается! Но логика здесь весьма странная: запутанная, неубедительная. Рейхенбах на это решительно возражает Грюнбауму: «Вообще в принципе невозможно использовать субъективные чувства для определения временно́го порядка событий внешнего мира. Мы должны, следовательно, найти другой критерий. Считать это твёрдо установленным свойственно методу нашего сомнения и исследования».