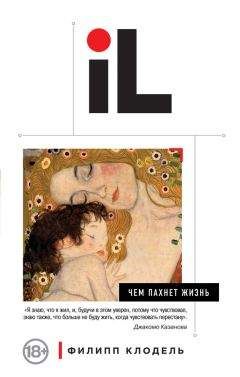Гудрон
Goudron
В тягучие часы лета на узких дорогах среди спелой пшеницы солнце вылущивает из кромки асфальта, между серых камешков, черные, цвета нефти, ручейки, блестящие, маслянистые, липнущие к колесам машин и велосипедов и, уж конечно, к подошвам бродяги. Пахнет дробленым камнем, порохом, камфарной смолой и йодом – несуразность в этих местах, далеких от моря, если, конечно, забыть о том, что миллионы лет назад оно покрывало здесь все, и горы, и долины, а теперь оставило после себя лишь ракушки, превратившиеся в камни, тяжелые и ломкие, которые поднимают на поверхность нематериальным тралом лемеха плугов. Бесконечный день между Арокуром, Бюиссонкуром, Ремеревилем и Курбессо, я гуляю, где вздумается. И счастлив. Или я, дисциплинированный скаут, иду в цепочке по дорогам Мартенкура, Жезонкура, Маме, Рожевиля, Арну, Корсье, подхватывая ритмичные и глупые песни, в которых поется о пиписьках, о деревянных ногах и о том, как правильно ходить. Ручейки гудрона покрыты испариной от жары, сверчки и кузнечики настраивают свои крылышки. Из облаков, белых, круглых, пузатых, им отвечают жаворонки. Начинаешь мечтать о журчанье родника. Высматриваешь вдали, где-то близ Сен-Жана, рощицы, похожие на больших синих овец, лежащих на боку. Дышишь в полные ноздри. Подхваченная ветерком оса вязнет порой в пузырчатых лужицах на плавящемся шоссе. И умирает одна, даже не пытаясь вырваться из ловушки – знает, что это конец. На деревенских колокольнях, расплывающихся в жаркой дымке, часы бьют три, и бронзовое эхо теряется, цепенея, в равнодушно чистом небе. А бывает еще гудрон в железных бочках. Он жидкий. Он ждет рабочих, алжирцев или португальцев, которые черпают его большими ведрами и заделывают выбоины на дороге. Все это сложено возле нашей начальной школы. Мы присматриваемся к содержимому. Цвет и запах лакрицы. Слабо тебе бросить туда камень? Меня провоцируют. Я принимаю вызов. Дураков берут на слабо. Гудрон брызжет черными каплями, красиво. Из бочки течет. Земля в пятнах. Преступление. Я убегаю. Я уверен, что меня арестуют. Прихожу домой понурый. Мама чувствует: что-то случилось. В дверь звонят. Я вижу в окно два кепи. Полиция. Бегу в свою комнату, прячусь под одеяла. Живо представляю себе суд и тюремную камеру. Как страшно бояться! Тебя будто совсем нет. Будь ты проклят. Но я слышу смех. Полицейские – просто сослуживцы отца, зашли поздороваться: маленький Бюртен, который однажды выписал штраф на собственную машину, перебрав аперитивов, и большой Туссо с носом, как у де Голля. Я спускаюсь на цыпочках. Мне еще немного страшно. Как знать? Может быть, это уловка, чтобы наверняка арестовать вандала, испортившего бочку с гудроном. Но нет, фургон уезжает. Пора обедать. Мама уже накрыла на стол. Намыливая руки, я вижу на левой черное пятно. Жирное, липкое, не отмывается, только расползается, словно свидетельствуя, что я виновен.
Виновен.
Розовый песчаник
Grès rose
Низкие вогезские домики в долгих осенних днях, мало света и холод, омытый дождем. Глупый дождь. Назойливый. Ничто его не остановит, ни желоба крыши, ни зонты, мгновенно промокающие на кладбищах, когда мы убираем цветами могилы к Дню Всех Святых. Сель-сюр-Плен. Сен-Блез. Шатас. Объезд наших умерших. Турне хризантем. Мы едем по пустынным долинам, в которых дремлют деревушки у подножия густых лесов из черных елей. Брызжет из фонтанов мутная вода. Красноватая. В кафе приспущены шторы. Никакого движения. И я тоже не смею шевельнуться в доме бабушки Клементины, мамы моего отца – слишком красивое имя для женщины без улыбки, без ласки. Мы сидим в кухне, здесь она принимает гостей, здесь же ест, дремлет, час за часом коротает день и жизнь. Ее комнаты я не видел и никогда не увижу. В последний раз я поцелую ее на смертном одре в доме ее дочери, тети Ненетты, сестры-близняшки моего отца. Мне скучно. И так холодно! В доме не топят. Еще рано. Только начался ноябрь. Падают листья, ложатся на землю под деревьями, точно кающиеся грешники. Маме тоже скучно, она все больше молчит, а отец со своей мамой не обращают на нас внимания, им есть о чем поговорить: наследства, старые обиды, чье-то проданное имущество, сплетни, семейные истории, замешанные больше на ненависти, чем на любви. Я закрываю глаза. Пытаюсь распознать запах этого дома, словно так смогу его полюбить. Сырость, затхлость, плесень, газеты с густой типографской краской, которые не выбрасывают, чтобы было чем подтираться, душок соломы, белье, никогда до конца не высыхающее. Мертвый дым. Черствый пирог блекнет в черной форме. Логово, пещера, да и только. Не хватает лишь мхов, сталактитов, натеков, летучих мышей. Я, спелеолог, ужасаюсь – не дай бог здесь жить! – и все же, все же мне почему-то нравится раковина, вырезанная из цельного куска розового песчаника, этой плоти Вогез, всегда мокрая, потому что из крана, весело журча, подтекает вода. Это все равно что иметь в доме родник, вода как будто сочится прямо из земли. И этот песчаник цвета губ юных девушек, вот так вечно намокая, дарит коснувшемуся его – ласку, а пьющему – запах, почти цветочный, сладковатый, лесной, тонкий, весь – легкость, несмотря на плотную, грузную массу едва тронутого временем камня, и свой возраст, в котором его рождение неотделимо от рождения мира.
Гимнастический зал
Gymnase
В гимнастических залах скрыт недооцененный эротический потенциал. Особенно в стареньких, где пыль и плохая вентиляция, ветхие снаряды, хлорозный свет и обшарпанные раздевалки, и все это вместе, неизвестно почему, создает атмосферу, благоприятствующую накалу любовного желания. Папаша Жорж – наш учитель физкультуры. Мы учимся во втором классе лицея Биша в Люневиле. Он много курит, сам давно уже не бегает, а помещение, которое он делит с коллегами, похоже на подсобку пивной. Я думаю, он досконально изучил вопрос, и его манера держаться «плевать на все» – не последний урок, который он нам преподал. Во всяком случае, некоторые из нас, не из числа, кстати, любимцев хронометра, хорошо его усвоили. Классы в лицее смешанные, но на уроках физического и спортивного воспитания девочки – отдельно, а мы – отдельно. Кружева с холстиной не смешивают. Иногда, однако, мы занимаемся в одном и том же зале. Они в одном углу, мы в другом, по очереди прыгаем через одних и тех же коней, висим на одних и тех же брусьях и кольцах, на канатах, на шведской стенке, падаем на одни и те же маты и кувыркаемся на одних и тех же ковриках. Наши юные напряженные тела то и дело задевают друг друга. Мы смотрим на девочек, которых так хорошо знаем, новыми, девственными глазами. Мы вдыхаем их запах, когда усилие покрывает потом их лбы и подмышки, туманит взгляды томной усталостью, делает движения чувственно-медлительными, а дыхание жарким, будто бы провоцирующим нас. Их щеки рдеют. Девушки в цвету? Нет, девушки в огне, и этот огонь нас воспламеняет. Пусть от папаши Жоржа пахнет пивом, перно и табаком, пусть в зале нечем дышать от запахов пота, ног, немытых тел, пусть со всеми этими ветхими канатами и ковриками – их пористая резина, как ни странно, воняет гуммиарабиком – помещение выглядит каким-то советским, но это ничуть не мешает мне трепетать при виде ляжек Коринны Рему, усеянных с внутренней стороны легчайшим сфумато волосков, золотисто-рыжей грации Кароль Равайе, незабываемой, не по возрасту развитой груди Мари Марен, гибкого, как спинка выдры, лобка белокурой Изабель Леклерк, который коротенькие темно-синие шорты не скрывают, а скорее подчеркивают. Я упиваюсь. Коплю все: хихиканья, касания, разрезики, белый или розовый промельк трусиков, выглядывающих порой, когда раздвигаются «ножницами» ноги прыгуньи в высоту или расходятся ягодицы в шпагате, согнутые коленки взбирающейся по канату – вот она прильнула к нему, обняла и продвигается по-змеиному, выгнув спину, тихонько покряхтывая, вверх, к небу гимнастического зала, а я слежу за ней, раскрыв рот, не в силах оторвать глаз, в мозгу мутится от прилива гормонов, член тверд, как римский мрамор. Гимнастические залы остались для меня старыми товарищами. Они знают. Есть такие, кто, входя туда, зажимает нос и морщится. Я же закрываю глаза. Я ищу девушек. Моих девушек. Я, если честно, до сих пор слышу, как они смеются, бегают, поддразнивают и подбадривают друг друга, но больше их не вижу. Они скрылись за поворотом времени, а я – я удаляюсь.
В глубине нашего сада, возле курятника, мой отец иногда устанавливает самодельную коптильню: свернутый цинковый лист, увенчанный сверху трубой. Он подвешивает внутрь длинные полоски сырого сала и засыпает вниз еловые опилки, которые горят медленно, без огня, с голубоватым дымком, вроде того, что поднимается от костров дровосеков в осенних ельниках, окутывая верхушки больших деревьев. Вогезские леса, вогезская шутка: «Кого ты больше любишь, папу или маму?» – «Я больше люблю сало!» Нужно много дней, чтобы хорошенько прокоптилось. Отец снимает полоски – они скрючились, затвердели, сменили свежий бело-розовый цвет на глухие темные оттенки, шкурка стала кожей, а если поднести их к носу, запах мяса смешивается с диковатыми ароматами смолистой хвои и дыма. Взять острый ножик, разделочную доску, отрезать от шмата сала два ломтика толщиной в полсантиметра, разогреть сковородку, бросить на нее маленький кусочек масла, подождать, пока растопится, и положить ломтики плашмя. Музыка и наслаждение. Кухня полнится аппетитным потрескиванием, а от сковородки валит густой дым, пахнущий горячим жиром, поджаренным мясом, сосновыми шишками, паленой шерстью. Сало преображается на глазах, жирные части становятся прозрачными и брызжут соком, а постные прожилки меняют цвет – темно-розовый, фиалковый, красный до сиенской охры, если продлить жарку еще на несколько секунд. Снять с огня. Положить два ломтика на деревенский хлеб. Спрыснуть бутерброд кипящим жиром. Съесть горячим. Это готовит мне мой отец. Любая диета осудила бы этот рецепт, а жаль. Ведь это один из путей к минутам полного счастья. Запах жареного сала и жареного лука или оба вместе вызывают у меня немедленное слюнотечение и блаженство, продолжающееся, когда я ем. Это и не еда, а так – перекус. На скорую руку, без затей, без церемоний, около 10 утра – будто показать нос условностям. Например, по возвращении с рынка, в четверг, когда, задержавшись у открытого фургона папаши Хаффнера, фермера-колбасника, выращивающего свиней в Монтиньи, недалеко от Донона, совсем как в детстве – у витрины магазина игрушек перед Рождеством, я выкладываю на кухонный стол мои сокровища – галантин из голов, кровяную колбасу, белую колбасу с грибами, копченое сало, свиное рыло, сардельки, сосиски, ножки в сухарях, окорок, филейчики – и, отдавая должное жертвенному животному и жрецу, беру сало, нюхаю его, отрезаю два ломтика, достаю хлеб, сковородку, все, как делал мой отец для меня, и со стаканчиком сантене от Боржо готовлюсь отслужить ту мессу, от которой не откажусь никогда в жизни.