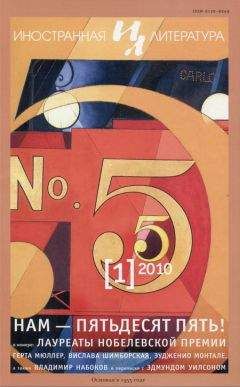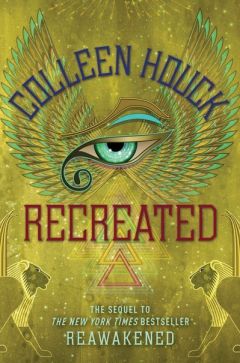— Вот как? И когда же мы познакомимся с Адриано?
— Это как раз то, что ей нужно. Человек ее круга. А как тебе Перевал дьявола — пощекотал нервы?
На заднем сиденье «фиата» он поместился между Прентисс и Шехерезадой, в то время как Лили ехала в так называемом кабриолете (элегантном красном автомобиле с откидным верхом) с Уной и Кончитой. На заднем сиденье Прентисс не шевелилась, а Шехерезада на каждом крутом повороте клонилась к нему, падала к нему в объятия. Шел сильный дождь, и через Пассо-дель-дьяволо они всего лишь прорулили, поглазели на него в окошко. И все равно Кита захватило буйство чувственных впечатлений; он уподобился молодым людям Монтале, каждая из его желез превратилась в Джокопо, Джованни, Джузеппе. Ее рука и бедро время от времени начинали прижиматься к его руке и бедру. Ее золотистые ароматные волосы копной собирались на миг у него на груди. Неужели это — обычное дело? Неужели это что-то означает? Эй, Прентисс, хотелось сказать ему. Ты многое повидала. Так что все это значит? Смотри. Шехерезада все время…
— Мне понравилось. Настоящий серпантин, очень страшный.
— М-м. Страшный. Еще бы. Когда Додо втиснулась на переднее сиденье.
— И всегда со стороны обрыва — вот спасибо.
— Господи. Ты небось перепугался до ужаса.
В машине Кит говорил себе, что Шехерезада просто наполовину спит. И действительно, она отключилась на пару минут, прямо перед тем, как они повернули обратно; голова ее доверительно покоилась на его плече. Потом она рывком очнулась, кашлянула и взглянула на него через ресницы, улыбаясь своей непостижимо щедрой улыбкой… И все началось по новой, ее рука, прижатая к его руке, ее бедро, прижатое к его бедру. Что ты думаешь, Лили? Елки-палки, видела бы ты ее на днях в ванной. Очередная промашка с замком, Лили, и вот она, в голубых джинсах и лифчике. Что она хочет этим сказать? А может, ее привычное мышление еще отстает от фактов ее преображения. Порой она по-прежнему видит в зеркале во весь рост филантропшу-мышку в практичных туфлях и очках. А не крылатую лошадку в голубых джинсах и белом бюстгальтере с тончайшей голубой каемкой.
— Мне показалось, что Уиттэкер каждый раз, когда поворачивал влево, еле выруливал, — сказал он.
— Поэтому я с Уной и поехала. Ваша правая передняя шина, видно, совершенно спустила.
— Я все думал, машина просто прекратит борьбу и перевернется. А как тебе Перевал дьявола?
— Нормально. Кончита клевала носом. А крыша протекала.
Он закрыл глаза. Пчелы-задиры гудели и искрились. Он выпрямился. На него уставилась муха, замершая на каменной столешнице. Он отмахнулся от нее, но она вернулась, затаилась и уставилась. Череп и кости в миниатюре… В этом деле с Шехерезадой бабочки, как представлялось Киту, встали на его сторону. Бабочки: игрушки на празднике, кукольные вееры и платочки — безнадежные оптимисты, щебечущие мечтатели.
Кит знал — это было нетипично для двадцатилетнего (преимущество, проистекавшее из его своеобразных обстоятельств), — что умрет. Более того, он знал: когда этот процесс начнется, лишь одна вещь будет иметь значение — как шли дела с женщинами. Лежа при смерти, человек обшаривает свое прошлое в поисках любви и жизни. И это, мне кажется, правда. Масштабно мыслить Кит умел. Однако текущую ситуацию, текущий процесс — он видел зачастую в неверном свете.
* * *
— Господи, да у них тут есть все.
Он имел в виду библиотеку, с полок которой извлек экземпляр «Памелы» (подзаголовок: «Вознагражденная добродетель»), принадлежащей перу автора «Клариссы», и экземпляр «Шамелы», принадлежащей перу автора «Тома Джонса». «Шамела» была пародийной атакой на «Памелу», призванной обнажить ее фальшивую набожность, ее мелочную вульгарность и ее некомпетентно сублимированный разврат — «lechery», западногерм. происх., от «lick» — лизать.
— Значит, Прентисс стала богатая, — сказал он. — Или богаче.
— Богаче. Кажется, — ответила Кончита.
Встав из-за письменного стола, она подошла к окну. Форма ее круглящегося живота в бесформенном черном балахоне. Она произнесла своим неестественно глубоким голосом:
— Хочу, чтобы эти розы вышли как настоящие.
Сто бы… высь ли…
— Как ты сюда приехала из Америки, Кончита? В смысле, на корабле или на самолете? Самолетом? Каким классом?
— Прентисс впереди. Мы сзади.
— Как же Додо выдержала? Я про еду. Поднос.
Двенадцатилетнее дитя вернулось к столу и взяло карандаши, сиреневый и багряный, со словами:
— Додо откидывается как можно дальше и в дырку… — она изобразила букву V рукой, выпрямив пальцы, — и в дырку кладет журналы. А на них ставит поднос.
Даль-се… Киту не терпелось передать это Лили (ноу-хау для толстяков в самолете), но не так сильно, как бывало раньше. Он по-прежнему был многим обязан Лили. Благодарность — это ему удавалось хорошо. По его мнению, это был его единственный эмоциональный дар. Вот и сейчас, сидя, он испытывал благодарность за стул под собой, за книгу перед собой. Благодарность и приятное удивление. Он испытывал благодарность за шариковую ручку в пальцах, приятное удивление от колпачка на ручке. Кончита продолжала:
— А потом все съедает. Даже масло все.
Он сказал, как намеревался сказать:
— Завтра перед отъездом я тебя, может, не увижу. Ты знаешь, что меня усыновили? Усыновление — это нормально.
Голова ее не шевельнулась, но радужки оторвались от страницы, и ему тут же стало стыдно — он понял, что усыновление (как мелкое экзистенциальное неудобство) в реестре Кончитиных проблем стояло не особенно высоко.
— Нормально, — сказала она.
— Я имел в виду — позже. — Мгновение он рассматривал ее, лунную чистоту ее лба, беспорядочные сумерки и розы ее щек. — Я имел в виду — позже. Очень жаль, что с твоими родителями такое произошло. До свидания.
— Adios. Hasta luego[15]. Мы, наверное, вернемся.
* * *
«Мамы нету, папы нету, малышня ругается. Тот, кто первый скажет „кака“, без трусов останется». Так, по словам его матери, распевала она со своими сестрами еще в 1935-м…
— Уверяю тебя, я повидал одаренных мусульман, — сказал Кит. — Тебе не кажется, что красивее их нет людей на земле?
— Да, кажется. Весь полумесяц.
Они с Уиттэкером играли в шахматы на «закатной террасе» — обращенной на запад. Уиттэкер рассказывал ему о том, что можно, чего нельзя делать, когда ты влюблен в Амина. Правила типа «нельзя» были куда более многочисленны. Кит продолжал:
— Да я сам когда-то встречался с двумя мусульманскими цыпками. Ашраф. И малышка Дилькаш.
— Каких национальностей? Или ты не различаешь?
— Ашраф из Ирана, Дилькаш из Пакистана. Ашраф была классная. Выпить любила и дала в первый же вечер. Дилькаш была вовсе не такая.
— Значит, Ашраф можно. А Дилькаш — нельзя.
— Угу. Дилькаш всегда было нельзя. — Кит скрючился на своем сиденье. По правде говоря, его мучила совесть по поводу Дилькаш. — Николаса я никогда не спрашивал, а сам так и не могу разобраться. Поэтому спрошу тебя.
По сути, Уиттэкер во многом напоминал Николаса. Оба разговаривали готовыми предложениями — даже готовыми параграфами. Оба все знали. И поначалу казалось, что они чем-то похожи внешне. Много лет обучавшийся в британской школе-интернате, Николас, естественно, прошел через гомосексуальный период. Однако нынче в Николасе чувствовалась политическая воля — то, что называли «сталью», по крайней мере, политики. А Уиттэкер, с его заплатками на локтях и толстыми очками, этим не отличался.
— Ашраф, Дилькаш. Иран, Пакистан — какая разница? В смысле, они же обе арабки. Да? Нет. Погоди. Ашраф арабка.
— Нет, Ашраф тоже не арабка. Она персиянка. А разница, Кит, в том, — продолжал Уиттэкер, — что Иран — загнивающая монархия, а Пакистан — исламская республика. По крайней мере, по названию. Еще вина. Ох, прости. Ты ведь не увлекаешься.
— Немножко увлекаюсь. Ну, ладно, давай… Дома у Дилькаш родители по вечерам пили шипучку. Представь. Взрослые мужчина и женщина по вечерам пьют шипучку. Амин пьет?
— Пьет? Для него это просто, в общем, чрезвычайная непристойность. Гашиш курит. С другой стороны.
— Ашраф была классная, а вот с Дилькаш я так и не… — Кит остановился. — Так, а что это за драма, — спросил он, закуривая, — с Амином и грудями Шехерезады?
— Амин, — сказал Уиттэкер, низко склонив лицо над доской, — пидор в гораздо большей степени, чем я. Гораздо.
— Значит, у вас есть градация. Ну да, почему бы и нет. Конечно есть.
— Конечно есть. И Амин — пидор в очень большой степени. Отсюда и серьезность проблемы, которая возникла у него с грудями Шехерезады.
— Я его теперь совсем не вижу.
— Я тоже. Дело обстоит хуже, чем когда-либо.