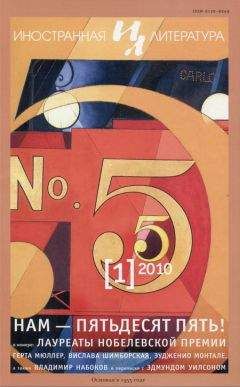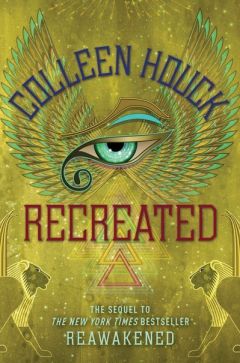Потеплевшее лицо Шехерезады, обращенное к нему, лучилось из складок толстого белого полотенца.
— Вот видишь? — сказала она. — Говорила я тебе.
Губы: верхняя столь же полна, сколь и нижняя. Ее карие глаза и равновесие их взгляда, ее ровные брови.
— И это не в последний раз, — продолжала она. — Обещаю.
Она крутнулась, он последовал за ней. Она повернула налево, он наблюдал, как они втроем удаляются, настоящая Шехерезада и симулякры, скользящие по стеклу.
Кит остался в зеркальной букве L.
…«Пугало, может быть, мечта». Сколько часов, таких счастливых часов провел он со своей матерью, Тиной, за этой игрой, «Пугало, может быть, мечта», в баре «Уимпи», в кофейне («Кардома»), в кафетерии в стиле ар-деко.
— Что ты думаешь об этой парочке, мам? Вон там, у музыкального автомата?
— Парень или девушка?.. М-м. Оба — «может быть, но вряд ли».
Они раздавали оценки не только незнакомцам и прохожим, но и всем, кого знали. Как-то днем, когда Тина гладила, он сделал — а она поддержала — утверждение о том, что Вайолет — видение, достойное занять свое место рядом с Николасом. Потом одиннадцатилетний Кит спросил:
— Мам! А я — «пугало»?
— Нет, милый. — Она отвела голову на дюйм. — Нет, мой хороший. У тебя лицо похоже на лицо, вот что я тебе скажу. Оно полно выражения. Ты — «может быть». «Очень может быть».
— Ну ладно. Давай какую-нибудь тетеньку.
— Какую тетеньку?
— Давину.
— О! «Мечта».
— М-м. Высокая мечта. А миссис Литтлджон?
Однако он, по сути говоря, более или менее примирился с собственным уродством (а в школьном дворе стоически откликался на прозвище «Клюв»). Потом все изменилось. Событие, которое должно было произойти, произошло, и все изменилось. Изменилось его лицо. Челюсть и в особенности подбородок утвердились, верхняя губа утратила клювоподобную твердость, глаза стали яснее и шире. Позже он придумал теорию, которой предстояло волновать его всю оставшуюся жизнь: внешность зависит от того, насколько ты счастлив. Лишенный расположения к окружающим, обиженный с виду мальчик, внезапно он сделался счастливым. И вот теперь здесь, в Италии, в подернутом рябью, крапчатом зеркале отражалось его лицо — приятным образом лишенное дефектов, твердое, сухое. Юное. Он был достаточно счастлив. Был ли он счастлив достаточно для того, чтобы пережить экстаз феномена Шехерезады — жить с этим экстазом? Еще он полагал, что красота при близком и длительном контакте в легкой степени заразна. Это было общее мнение, и он его разделял; он хотел испытать красоту на себе — быть узаконенным красотой.
Кит сполоснул лицо под краном и пошел вниз к остальным.
Холодные, сырые облака кружились над ними и повсюду вокруг них — и даже под ними. Ломти серого пара отделялись от вершины горы и лениво соскальзывали вниз по склонам. Казалось, они лежат на спине в канавках и водостоках, отдыхая, подобно изнуренным джиннам.
Кит взял и вот так вот пробрел через одно такое упавшее облачко. Чуть больше Шехерезады в ее толстом белом полотенце, оно прилегло на низкой веранде за выгоном. Дымящееся явление шевелилось и менялось под его ногами, а после снова разглаживалось, с настрадавшимся видом приложив ко лбу тыльную сторону ладони.
Прошла неделя, а вновь прибывшим еще только предстояло воспользоваться достойным жителей Олимпа плавательным бассейном, разместившимся в гроте. Кит решил, что его сердцу это пойдет на пользу — наблюдать, как девушки, в особенности Шехерезада, развлекаются там, внизу. Меж тем «Кларисса» была скучна. Но все остальное — нет.
* * *
— Мне часто хочется, — произнесла Лили в темноте, — мне часто… Знаешь, я бы отдала часть своего ума за то, чтобы стать немножко красивее.
Он верил ей и сочувствовал. А льстить было бесполезно. Лили была слишком умна, чтобы говорить ей, что она красива. Формулировка, на которой они остановились, звучала так: «она — из тех, кто расцветает поздно». Он сказал:
— Это… это несовременно. В наши дни девушки должны быть умными карьеристками. Не все зависит от того, какого мужа тебе удастся охмурить.
— Ты ошибаешься. Внешность стала еще важнее. А рядом с Шехерезадой я чувствую себя гадким утенком. Ненавижу, когда меня с кем-то сравнивают. Тебе не понять, но она меня мучает.
Лили как-то сказала ему, что, когда девушке исполняется двадцать, к ней приходит красота, если ей суждено обладать хоть какой-то. Лили надеялась, что ее задержалась в пути. Но красота Шехерезады уже пришла, прибыла, только что с корабля. Каких только призов за внешность — «Грэмми», и «Тони», и «Эмми», и «Золотых ветвей» — она не заработала. Кит сказал:
— Твоя красота вот-вот появится.
— Да, но куда же она запропастилась?
— Давай подумаем. Меньше ума, больше красоты. Как там было? Что лучше — выглядеть умнее, чем ты есть, или быть глупее, чем выглядишь?
— Я не хочу выглядеть умно. Я не хочу выглядеть глупо. Я хочу выглядеть красиво.
— Ну, будь у меня выбор, я бы хотел быть грубее и умнее, — вяло сказал он.
— А если так: меньше ростом и умнее?
— Э, нет. Я и так слишком мал ростом для Шехерезады. Она вон какая. Я и не знал бы, как начать.
Подойдя поближе, Лили сказала:
— Запросто. Я тебе сейчас объясню как.
Это превращалось в регулярную прелюдию к их еженощному акту. Причем необходимую или, по крайней мере, нелишнюю, поскольку тут, в Италии, по причинам ему пока неясным, Лили, казалось, теряла свою сексуальную незнакомость. Она стала чем-то вроде кузины или старой подруги семьи, человеком, с которым он играл в детстве и которого знал всю жизнь.
— Как? — спросил он.
— Просто перегнись к ней, когда вы с ней на полу играете в карты перед сном. И начни ее целовать — шею, уши. Горло. Потом, знаешь, она завязыает рубашку таким нетугим узелком, когда хочет пощеголять своим загорелым животом. За него можно просто потянуть. И все распахнется. Кит, да ты же совсем дышать перестал.
— Нет, я просто подавлял зевок. Продолжай. Узел.
— Тянешь за него, и ее груди вываливаются прямо на тебя. Тогда она задерет юбку и откинется на спину. И выгнется, чтобы ты смог стянуть с нее трусы. Потом перевернется на бок и расстегнет тебе ремень. А ты можешь встать, и не важно, что она выше тебя. Она ведь будет спокойненько стоять себе на коленях. Так что не волнуйся.
Когда все кончилось, она отвернулась от него со словами:
— Хочу быть красивой.
Он прижал ее к себе и держал, не отпуская. Держись Лили, сказал он себе. Держись своего уровня. Не надо… не надо… влюбляться в Шехерезаду… Да, безопаснее всего — держаться середины, довольствоваться своим статусом «может быть». Надеяться надо было на это — на то, что все еще может быть.
— Знаешь, Лили, с тобой я могу быть самим собой. Со всеми остальными я будто играю какую-то роль. Нет. Работаю. С тобой я остаюсь самим собой. Безо всяких усилий.
— М-м, но я-то собой быть не хочу. Хочу быть кем-то другим.
— Я люблю тебя, Лили. Я всем тебе обязан.
— И я тебя тоже люблю. Хоть это у меня есть… Теперь девушкам еще больше нужна внешность. Вот увидишь. — На этом она уснула.
Итак, были поездки (курорт, потом — рыбацкая деревушка на Средиземном море, какой-то разрушенный замок, какой-то национальный парк, Пассо-дель-дьяволо), были гости. Вроде нынешнего трио: разведенная жена из Дакоты, Прентисс, совсем недавно удочеренная ею Кончита и их подруга и помощница Дороти, которую все называли Додо. Сообщать их жизненные статистические данные было бы, пожалуй, некрасиво, но самую жизненно важную изо всех статистику поведать можно: Прентисс, по оценкам Кита, было «около пятидесяти» (то есть где-то между сорока и шестьюдесятью), Кончите — двенадцать, а Додо — двадцать семь. Кроме того, Прентисс попадала в разряд «может быть», Кончита была «мечтой», а Додо — «пугалом». Малышка Кончита была родом из Гвадалахары, Мексика, и носила траур — по своему отцу, как было сказано Киту.
Прентисс, ожидавшая результата завещания, бабкиного (от которого отчасти зависело их турне по Европе), была высока и угловата. Кончита была, если честно, слегка толстовата (с округлым животиком). А Додо, дипломированная медсестра, была потрясающе жирна. Кита смущал размер головы Додо — маленький, на деле или с виду. Голова ее была какой-то несуразностью, вроде чайной чашки на айсберге. Все гости спали в поместительных апартаментах Уны.
Он, Кит, не был типичным представителем двадцатилетних, но в одном отношении типичным он был: считал, что все вокруг безмятежно статичны в своем существовании — все, кроме двадцатилетних. Правда, даже он мог утверждать, что всех троих гостей ждут драматические повороты и частые перемены. Поводом для этого, разумеется, служило горе Кончиты. И наследство Прентисс, и разрешение всевозможных тяжб и сложностей с ее родителями, многочисленными дядьями и тетками, тремя братьями и шестью сестрами. Существовала тут еще и некая неопределенность, касающаяся Додо, чья тучность в перспективе была не расплывающейся, но туго натянутой, напряженной; плоть ее обладала эластичностью сильно — до твердости — надутого шарика. Интересно, лопнет ли она, Додо, пока здесь гостит? Или просто будет становиться все толще и краснее лицом? Это были вопросы насущные.