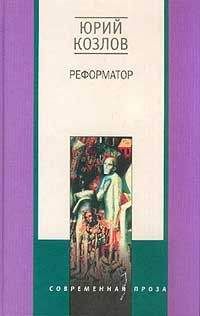Поезд тронулся.
«Там, в коридоре я понял, — обнял Савву отец, — что человеку нигде, никогда, ни в чем нет покоя. Даже смерть, — продолжил, понизив голос, — это отнюдь не один только вечный покой. Стоило ли ходить туда, чтобы это узнать?»
Никита вдруг понял, что никогда больше не увидит отца. Он бросился к нему, обнял, как когда-то давно в детстве, когда, гуляя в сквере, высматривал его, идущего от станции метро. Никита бежал, замирая от восторга, ему навстречу, а отец подхватывал его на руки, прижимал к себе, и казалось, никакая сила никогда их не разлучит.
«Будь осторожней, — вдруг шепнул Никите отец. — Когда… — Тут вдруг дико заголосила какая-то баба, и Никита перестал слышать отца, — …в себя, слышишь, только в себя… нив коем случае… не в него. Он… — Никите показалось, что отец произнес: “Дельфин”.
“Кто?” — растерялся Никита.
Он догадался, что речь идет о Савве или Ремире. Но вдруг подумал, что отец имел в виду… Господа Бога.
А что если, подумал Никита, неведомый автор статьи “Приказ по армии жильцов” прав? Не в образе человека явится Господь во время второго пришествия, но… дельфина?
Или мне это только послышалось? — засомневался Никита.
“Кто?” — еще раз крикнул он.
Но отец не ответил, оттесненный дородной проводницей вглубь тамбура. Только его рука металась над ее головой, как будто в тесном тамбуре билась, стремясь вырваться на волю, чайка или какая-то другая белая птица, возможно, голубь.
Никита подумал, что безумие, в принципе, неуничтожимо, как смерть. Так называемая, борьба с ним — всего лишь его переход (когда невидимый, ползучий, когда торжественный, как въезд триумфатора в Рим) с одной на другую, как правило, более масштабную орбиту. Неужели в этом, ужаснулся Никита, равно как и в том, что человеку нигде, никогда, ни в чем нет покоя, и заключается главная (неразрешимая) тайна мира? Если, конечно не принимать за таковую предположение, что Господь Бог… явится на землю в образе… дельфина?
…Спустя некоторое время (уже после отъезда отца, бегства Никиты и таинственного спасения-исчезновения Саввы), Юрьев день был перенесен на двадцать девятое февраля.
То есть, стал не каждый год, а раз в четыре года.
Никита Иванович понятия не имел, действует ли сейчас в России Юрьев день?
Кто-то, правда, говорил ему, что Юрьев день теперь как бы “развернут” на сто восемьдесят градусов. В том смысле, что не российские граждане покидают страну, а… иностранные граждане раз в четыре года въезжают в Россию, как в землю обетованную.
А почему, собственно, нет, — подумал стоя пред оловянными очами молчащего, как если бы и язык у него был из олова, Саввы (Сабо) Никита Иванович.
Савва (тогда еще не Сабо) однажды сказал ему, что если отец побывал в коридоре и вернулся, то ему, Савве, хотелось бы побывать в аду и в раю, а потом тоже вернуться.
“Где же он тогда побывал, — помнится, поинтересовался Никита, — если не увидел ни ада, ни рая?”
“А он прошел по внешнему периметру, — задумчиво ответил Савва, — скользнул по нейтральной, так сказать, полосе, как разведчик. Что-то он, конечно, видел, но не конкретно, потому что не за этим шел. Так альпинист, покоривший горную вершину, пьянеет от счастья, и плевать ему, что там внизу под облаками”.
“А тебе, — спросил Никита, — зачем это видеть?”
“А чтобы приблизить земную жизнь к идеалу, — цинично рассмеялся Савва, — если, конечно, этот идеал существует и если его можно увидеть”.
Так что, нет ничего удивительного в том, что граждане других государств и, вероятно, лица без гражданства стремятся в Россию или (вон, сколько их было в автобусе) в Белуджистан, — решил Никита Иванович. Куда только люди не стремятся.
Да, мир управлялся по законам больших чисел. Но малые числа всегда путались у больших под ногами, портили картину, как угодившие в суп мухи.
Интересно, — подумал Никита Иванович, они въезжают в Россию одетыми или…
Дело в том, что до перехода на четырехлетний цикл любой гражданин хоть и мог в Юрьев день покинуть пределы России совершенно свободно, но… должен был сделать это налегке. Причем, не просто налегке, а… совершенно голым.
Пограничники, таможенники, санитарно-эпидемический контроль без проблем выпускали синих от холода, голых людей, не утруждая себя их практологическим и гинекологическим (на предмет сокрытых ценностей) осмотром.
“Чище, чище мойте им пятки, — висел на стене таможенного терминала плакат с цитатой из какого-то выступления Ремира, — пока они у них не превратились в дельфиньи хвосты. Чтобы ни одна сволочь не могла унести частицу Отечества на своих грязных подошвах”.
Ритуальное мытье пяток заключалось в том, что в специальном бетонном боксе “юрьевцев” окатывали сильнейшей, сбивающей с ног ледяной струей из пожарного брандспойта.
Приказ по армии жильцов уже был отдан.
По всей стране сознательные граждане добровольно сдавали “дельфиньи” компьютеры, выявляли несознательных граждан, которые не хотели с ними расставаться.
Савва сидел в тюрьме, ожидая повешения на Красной площади.
Енот томился в земляной яме, ожидая кастрации.
Про “Самоучитель смелости” в России никто не вспоминал, как будто не было никакого “Самоучителя смелости”.
Собственно, и борьба против замаскированных дельфинов велась как-то смазано, вяло. Возможно, это объяснялось тем, что к тому времени Россия превратилась в стопроцентно сухопутную (как Чехия или Монголия) страну.
Если трагедия в жизни народа, как полагают историки и философы, повторяется во времени виде фарса, то фарс, по мнению Никиты, повторялся во времени в виде… комикса — идиотского плаката на стене таможенного терминала.
Провожал Никиту отец Леонтий.
Пока неслись по промерзшему шоссе на “Harley-Davidson” к аэропорту, Никита хотел спросить у него, до какой степени человек готов мириться с тем, что есть, приспосабливаться ко всему на свете?
Но когда они, наконец, добрались до пустого, как склеп, Шереметьева, ему расхотелось спрашивать, потому что он знал ответ: эта степень отсутствует.
Никита вспомнил разговор с Саввой насчет заговора равнодушных. Воистину, этот заговор увенчался в России стопроцентным успехом.
Из Шереметьева в Юрьев день отправлялся единственный раздолбанный, вне всяких сомнений, давным-давно выработавший свой ресурс, “Ту-134” с полуоблупившимся рисунком и непонятной двуязычной надписью на фюзеляже: “Филя, I love you!” Никита вспомнил, что когда-то был в России певец по имени Филя. Судя по всему, он-то и владел этим самолетом. Сейчас от Фили на фюзеляже остались одни печальные глаза среди с трудом угадываемых цветов.
Каким-то чудом (никто в аэропорту ничего не знал) отцу Леонтию удалось выяснить, что самолет летит в бывшую столицу Румынии, а ныне вольный город Бухарест. У Никиты были сильные сомнения, что “Ту-134” долетит до Бухареста. В принципе, он уже не видел разницы: лететь в Бухарест, или остаться в России? Голый среди безлюдья, снега и ветра, Никита ничего не хотел и был готов ко всему, то есть достиг той невозможной степени (внутренней) свободы, которая мало чем отличается от (внешнего) рабства. Ему даже показалось, что наконец-то он понял, что ощущал в последние часы жизни Иисус Христос, хотя, конечно, это была величайшая наглость.
Пройдя положенную пытку ледяной водой, прикрыв рукой не просто поникший, но как бы переставший существовать стыд, Никита поинтересовался у отца Леонтия, чем тот, собственно, намерен заниматься в России?
“Чем и всегда, — ответил отец Леонтий. — Пока здесь остается хоть одна Божья душа”.
“А если не останется ни одной?” — спросил Никита. Ему было так холодно, что, казалось, он растворяется в воздухе, а его (Божья) душа отлетает в небо вместе с дыханием.
“Тогда я останусь здесь один, — ответил отец Леонтий, — ибо Бог един”.
“В каком смысле?” — достало у Никиты сил удивиться. Он вспомнил, что когда слышал это от отца.
“Даже если в людях в силу каких-то причин слабеет вера, — ответил отец Леонтий, — им все равно свойственны добрые чувства. Всегда находятся такие, кто стремится накормить голодного, помочь слабому, утешить несчастного, защитить гонимого. Значит, Бог там. В них. Это планктон, из которого рано или поздно возродится новая жизнь, та жизнь, какую заповедовал нам Спаситель”.
“Но эту жизнь, — посмотрел по сторонам Никита, — он нам точно не заповедовал”.
Пусто, как в склепе, было в Шереметьеве. Было время, Никите казалось, что он знает Россию, как свои пять пальцев, но тут в Шереметьево, поднимаясь на борт единственного самолета, улетающего в Бухарест, Никита Иванович понял, что совсем ее не знает, как не знает своей новой — дрожащей, синей, расплющенной, как изо льда и снега (он не был уверен, что на ней пять пальцев) руки.
И никогда не узнает.