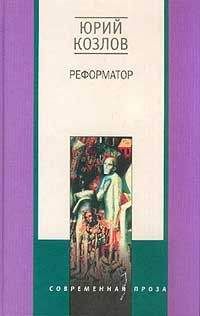И никогда не узнает.
Гражданская добродетель здесь не ночевала, — с гневом подумал Никита. Но тогда где она ночевала, сама собой продолжилась мысль, и где она сейчас ходит? Он хотел поинтересоваться у отца Леонтия, но не стал, потому что знал ответ: “В сердце твоем”. Никите не хотелось огорчать отца Леонтия. В его сердце не было гражданской добродетели.
“Жизнь не может быть хуже или лучше проживающих ее людей”, — заметил отец Леонтий.
“Она может быть плохой или хорошей, — возразил, стуча зубами, Никита, — но она не может быть никакой. А здесь она никакая. Никакой народ. Никакая власть. Никакая жизнь”, — с гордо поднятой головой, печатая шаг босыми ногами, двинулся к трапу. Он был уверен, что в самолете так же холодно, как и на улице.
“Жизнь — это ты, — тихо произнес отец Леонтий. — Но ты, в отличие от Господа, не един. Избавься от ненужной половины, и жизнь станет лучше”.
“Нет, — обернулся Никита. — Жизнь — все за вычетом меня. Вне ненужной половины меня нет! Я эмигрирую, дезертирую, растворяюсь в чистом листе”.
Отец Леонтий молча осенил его крестным знаменем. Никита поднялся по грохочущему трапу.
Обернулся.
Отец Леонтий махнул ему рукой.
Солнечный луч пробился сквозь ледяное небо, осветил отца Леонтия и асфальт вокруг него.
Никите вдруг показалось, что асфальт превратился… в море, а отец Леонтий взметнулся над ним в радужном веселом нимбе, как… дельфин.
Я схожу с ума, — подумал Никита, переступая на негнущихся ногах порог темного (как, вероятно, коридор, сквозь который прошел отец), неприветливого салона, схожу с ума от холода и отчаянья.
…Никогда еще он не общался с братом в столь безнадежных, тусклых (нечто среднее между пыточной камерой и скотобойней), в корне пресекающих надежды на лучшее, интерьерах.
— Плохо, — вдруг пронзительно (как струна гитары порвалась) прозвучало из темноты с высоты круглого сидения, — когда падает напряжение в сети.
В это мгновение зарешеченные лампионы на потолке и впрямь начали мигать, похабно (если допустить, что ровное белое свечение — это одежда, которую они решительно сбросили) обнажаться до самых красных вольфрамовых нитей.
Никита Иванович подумал, что лампионы всегда так (интимно?) светят в местах, где испытывается (и, как правило терпит сокрушительное поражение) человеческая воля: в застенках, камерах смертников, больницах и казармах.
Похоже, Савва (Сабо) существовал с некоторым опережением времени. Иначе откуда ему было знать, что лампионы начнут гаснуть?
Голос брата показался Никите Ивановичу неживым, электронным.
А что если, — ни к селу, ни к городу подумал он, — Ремир в последний момент переиграл — повесил под барабанный бой на Красной площади Енота, а кастрировал… Савву?
Он хотел сказать об этом брату, но не решился. Прежний Савва совершенно точно не обиделся бы, ответил бы в том духе, что всей душой приветствует такое решение, потому что отныне ничто не помешает ему всецело и окончательно посвятить себя служению Отчизне и президенту. А вот что ответит новый Савва (Сабо) Никита Иванович даже приблизительно не мог себе представить.
— Все в жизни происходит по одной и той же схеме, — между тем, продолжил Савва странный (в режиме прерывающегося монолога) разговор. Похоже, он и мысли не допускал, что собеседник может (должен) участвовать в этом разговоре. — Хорошее начало, средняя середина, дрянной конец. Или: отличное начало, неплохая середина, исключительно поганый конец. Человеческая цивилизация сейчас вплотную приблизилась к исключительно поганому концу, — неожиданно легко, как не чурающийся спорта, юноша, спрыгнул с высокого сидения, враз утратив сходство с памятником. — И это прискорбно. Жить не хочется. Точнее неинтересно, потому что все это уже было. Что за радость жить по схеме, которую к тому же придумал не ты? Но я, — усмехнулся одними, вытянутыми в синюю бескровную ленту, губами Савва, — был бы не я, если бы у меня не имелся в запасе проект, преображающий дрянной конец в новое — блистательное — начало. Не думаю, — надменно посмотрел на Никиту Ивановича, — что в мире есть более системные, последовательные и бескомпромиссные борцы с погаными концами, нежели я и… Господь Бог.
Никита Иванович не сильно удивился, что Савва (Сабо) поставил на первое место себя. Савва (не Сабо) тоже бы так сделал.
— А вот я, — с облегчением (брат, хоть и внушал опасения, все же говорил относительно связно и понятно), — капитулировал перед поганым концом, — честно признался Никита Иванович, — можно сказать, сам сделался его неотъемлемой частью.
— Не один ты, — утешил его Савва. — Но я знаю, как спасти погибших, приободрить отчаявшихся.
Никита Иванович подумал, что вряд ли погибшие захотят спасаться, а отчаявшиеся (в том числе и он сам) приободряться под руководством наводящего ужас на подлунный мир Саввы (Сабо).
— Мы работаем на Вечность, — с непонятной (видимо, на Вечность) обидой продолжил Савва, — а она устраивает нам кидалово, — произнес забытое блатное слово, употреблявшееся в России в начале тысячелетия.
— В каком смысле? — осмелился поинтересоваться Никита Иванович. — Тебе-то точно вышло не кидалово. Ремир хотел тебя повесить на Красной площади, а ты, вон, не только жив, но еще и… скажем так, в авторитете, — изумился собственной наглости Никита. Ему вдруг показалось, что погибнуть от руки брата, в сущности, хорошо и логично. По крайней мере, такой финал придаст хоть какой-то (пусть отрицательный) смысл его бессмысленно прожитой жизни.
— Я объясню тебе, в чем состоит кидалово, — Савва словно нехотя приблизился к железному шкафу в углу, извлек из него бутылку без этикетки, два необычайно красивых, по всей видимости, антикварных, из темного стекла фужера. — В переводе стрелок. Ты едешь в поезде по одному маршруту. Но вдруг смотришь в окно и видишь, что поезд едет совсем не туда. Более того, едет туда, куда ты никогда, ни при каких обстоятельствах, ни за какие деньги не собирался ехать. Хотел в Африку, где солнце и пальмы с бананами, а попал на Северный полюс, где полярная ночь и голодные белые медведи щелкают зубами. Кидалово — в неуловимости момента перевода стрелок. Это несправедливо, потому что ты не видел эту сволочь — стрелочника и, следовательно, понятия не имеешь, когда он сделал свое черное дело. Кстати, ты посетил мою композицию “Life — it is a long, long train”? — вдруг спросил Савва.
— Что? А? — вздрогнул, возвращаясь в реальность, Никита Иванович. — Я… слышал, читал про нее. Я же тогда не знал, что Сабо — это ты.
— Верю. Не посетил, — рассмеялся Савва. — Иначе сам бы уже ехал в моем long, long train. Я, между прочим, думал, как тебя там усадить, — ласково произнес Савва. — Ты бы с одухотворенным лицом сидел у окна с портативным компьютером на коленях, не обращая ни малейшего внимания на соседей. Ты бы вечно сочинял в моем поезде… — пристально посмотрел на Никиту Ивановича Савва, — какую-нибудь исключительно умную, пророческую статью, или… ну да, конечно же, роман! Ты не можешь не сочинять роман, потому что я тоже… — замолчал. — Вечный, потому что он никогда не будет закончен, роман. Из тех, какие Бог держит на своей книжной полке… Помнишь, отец говорил тебе про список?
— Мне, — уточнил Никита. — Он говорил мне, тебя при этом не было. Откуда ты знаешь?
— А ты откуда знаешь, был я или нет? — рассмеялся Савва. — Может, он и мне это говорил. Значит ты не хочешь сочинять в моем длинном поезде роман?
— С содранной кожей? — спросил Никита Иванович. — С глазами на ниточках, или с рассеченным черепом, вылезшими мозгами, чтобы все видели, так сказать, первоисточник, стихию, где рождаются статьи и романы?
— Как ты отстал от жизни, брат, — с огорчением покачал головой Савва. — Ты, наверное, думаешь, что я все еще занимаюсь составлением пирамид и прочих геометрических фигур из человеческой плоти, разного рода милыми безделушками, вроде парня в цилиндре, перебросившего через руку плащ из собственной кожи, официанта, несущего на подносе свои дымящиеся внутренности, женщины за утренним теалетом, расчесывающей мозг? Те времени давно прошли, — вздохнул Савва. — Мне надоели эти трупы, слишком много с ними возни. С некоторых пор я использую новую — уникальную — технологию консервации человеческих тел. Теперь я могу… — воздел руки к потолку, — все!
Никита Иванович вдруг отчетливо (как будто это было вчера, а не несколько лет назад) вспомнил, как подошел к вытянувшемуся от Центрального пражского вокзала до самого горизонта поезду, в котором Сабо представлял композицию “Life — it is a long, long train”, почти было купил билет, но в последний момент передумал, потому что понял, что… не выйдет из этого поезда живым. Что не для того тянется неизвестно куда этот поезд, чтобы люди выходили из него живыми. Что человек, пред чьими глазами пройдет такое количество мертвых, изображающих из себя живых, сам неизбежно превратится в мертвого, хоть и будет изображать из себя живого. Помнится, даже некая справедливость увиделась в этом Никите Ивановичу, он подумал, что есть определенная логика в том, что делает этот загадочный Сабо.