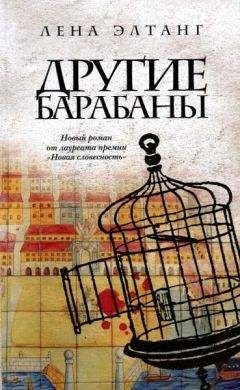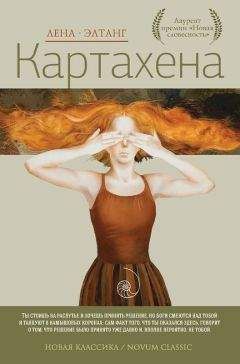— Когда снимаешь скрытой камерой, а ты ведь знаешь, что это — мой конек, зритель привыкает к осколкам реальности, ограниченной радиусом видения. Но в финале я обязан вытащить тебя на свет божий. Обернись! — закричал он мне в лицо, страшно округлив глаза и растопырив мокрые пальцы.
Я вздрогнул и обернулся.
По проходу между прилавками медленно шла девочка с овощной тележкой, за ней по каменному полу стелился след из луковой шелухи. Я поклонился, и девочка важно кивнула, остановившись. На ней была прозрачная школьная форма, сшитая как будто из нейлоновой занавески.
— Ты ведь Мириам? — я хотел погладить ее по голове, но она перехватила и отвела мою руку.
— Снято! — сказал Лютас. — Последняя часть, последняя сцена. Поздравляю, это единственная вещь, которую ты довел до конца. А то вечно у тебя на половине дороги кураж пропадает.
Я оглянулся на девочку, но она уже продолжила путь к овощным прилавкам, которых на Рибейре всего несколько, овощи и зелень здесь не в чести.
— Ну, ты сам посуди, — продолжал Лютас, подправляя рукой креветочный холмик. — Марки — где твои марки? Рыбки — где твои рыбки? Тетка — где твоя тетка? Ничего у тебя нет, ничего своего.
— А у тебя что есть? Ты умер, и твой жестяной балаганчик закрыт. Камеры забрала полиция, а лилипуты разбежались. Где твое беспощадное кино, которое ты столько лет собирался снимать? — я произнес это на одном дыхании, но, посмотрев ему в лицо, устыдился и замолчал.
В детстве меня всегда удивляло, что от ярости он заливается румянцем до корней волос. Все люди, которых я знал, бледнели от злости, а краснели от стыда, и только Лютас все делал наоборот.
— Я хотел снять кино про человека, который сделал из своей жизни антракт между двумя актами чужой пьесы. Я мог бы нанять актера, но мне показалось, что я окажу тебе услугу.
Я набрал воздуху, чтобы ответить, даже руку к нему протянул, но тут сон оборвался, плеснув тяжелым рыбьим хвостом, и ушел на глубину.
— Кайрис, выходите на допрос, — услышал я. Редька стоял надо мной, поигрывая бильбоке, красный шарик на нитке мерно качался над моим лицом, будто стрелка перевернутого метронома.
— Испекли меня, так ешьте мое тело! — сказал я, неохотно поднимаясь с лежанки, а он фыркнул и покрутил пальцем у виска. Еще бы, откуда ему, крепколобому, знать про муки святого Лаврентия.
Мы-то с Лютасом знали про мучеников все, потому что его бабка торговала литографиями у дверей Кафедрального собора, в ее корзине были бичевания и пытки раскаленным железом, простоволосая девица с отрезанной грудью и пророк, попирающий львов во рву.
Рядом с бабкой иногда садился слепой Ремигиюс, расстилавший на ступеньках бумажки с яблочной пастилой. Нужно было положить Ремигиюсу в шапку денег сколько не жалко и взять конфету, стараясь, чтобы он не успел поймать тебя за руку. Однажды я замешкался, доставая мелочь, слепой крепко ухватил меня за запястье и заставил отвести его на противоположный угол площади, к дощатому сараю реставраторов. Мы зашли за сарай, где студенты с археологического курили, сидя на корточках, на краю глубокой ямы, обнесенной синими лентами на колышках. Помню, что я подумал: как это они умудряются, сидят вот так часами, будто кочевники. Еще я подумал: сейчас Лютас заметит, что я пропал, порыскает по площади и явится меня выручать.
Слепец тоже сел на корточки, продолжая держать меня за руку, протянул к студентам другую руку со сложенной в лодочку ладонью и сказал, что привел мальчика на продажу. От страха у меня пропали все силы разом, я представил себе усыпанное мальчиками дно этой ямы, где, как говорили в городе, нашли кости шестисотлетней давности, времен Ягайлы и вырубки заповедных дубов. Студенты засмеялись, а тот, кто казался у них главным, сказал, что, мол, покупает и вложил в ладонь слепца железный рубль и смятую сигарету.
Я пытался вырваться, но Ремигиюс все крепче впивался в мое запястье худыми синеватыми пальцами, студенты поглядывали на меня с жалостью, а Лютас все не появлялся. Коварный слепец вернулся на паперть, у меня тут же отобрали куртку и портфель, и пришлось хорошенько побегать — то за пивом, то за сыром, — пока не сгустились сумерки, принялся накрапывать дождь и бригадир не сделал знак собирать инструменты. Добравшись до дома, я нашел своего друга на заднем дворе, в нашем шалаше, где от дождя прятались нахохленные соседские куры. Лютас сидел там с фонариком и читал «Ogniem i mieczem» в рваной обложке, который мы вместе нашли на помойке возле библиотеки. Он поднял на меня заплаканные глаза и сказал:
— Иеремию отравили, сволочи, князя Вишневецкого. Огурцами и медом.
Я вообще люблю острова. Там легче царить.
Альбер Камю
Не могу спать. Уже шесть часов и сорок две минуты не могу спать.
Сначала я считал овец, потом повторял испанские глаголы, теперь пересчитываю уклеек. Года два назад Лилиенталь обронил в разговоре, что прочел о способе подделки жемчуга: стекло прокрашивают изнутри, вдувая жемчужную эссенцию, сделанную из уклеечьей чешуи. Так вот, сказал он удивленно, на сто грамм этой белесой дряни идет четыре тысячи уклеек Ты представляешь себе, что такое четыре тысячи ободранных уклеек?
Нет, уклеек считать скучно, попробуем снова глаголы. Испанское слово corrida происходит от correr, что означает «бежать», а также — продаваться, грабить, преследовать, струиться, задвигать засов и стыдить, это я еще по тартуским лекциям помню. Был бы здесь Ли, так он до утра говорил бы о текучести смыслов, на эту тему он заводится с треском, как старые часы с кукушкой. Был бы здесь Ли, я бы его прямо спросил: бежать мне или струиться? стыдиться ли? задвигать ли мне засов? До полуночи я ходил по камере и разговаривал вслух, в двенадцать охранник принес мне аспирин и велел утихнуть, теперь я просто лежу и смотрю на дверь.
Я вижу круглую ручку и внушительную замочную скважину — такой замок мог быть на сундуке с казной или на воротах зверинца. Здешние засовы выглядят и лязгают как положено — иногда мне кажется, что охранник нарочно возится так долго, чтобы испытывать мое терпение. Странное дело, лунный свет почти не проникает в мое окно, хотя солнца в полдень бывает хоть залейся, на восточной стене даже есть место, где солнечная лиса в полдень гоняется за солнечным зайцем.
Выйду на волю — первым делом узнаю, что здесь раньше было, на месте этой тюрьмы. Что-нибудь вроде склада военной амуниции времен короля Карлоса Первого, которого убили в Альфаме, прямо под моими окнами, когда он возвращался с охоты. Прошло всего пятьдесят два дня с тех пор, как меня сюда привели — я сосчитал все зарубки, пятьдесят два завтрака, пятьдесят два вечерних ужина и сто четыре стакана яблочной кислятины. Вряд ли тетка назвала бы меня красавчиком, bonito, если бы увидела такого — в грязном свитере на голое тело, с армейской щетиной на черепе и розовой сыпью на лбу. Вот она-то была bonita, еще какая bonita, пока не осыпалась в одночасье, подобно изразцовому фасаду, треснувшему от подземного толчка.
Я говорю — осыпалась в одночасье, Хани, но это вранье. Я говорю так, потому что хочу выкинуть кое-что из головы. Но мы тут не в бирюльки играем, поэтому придется писать правду, тем более, что за последние недели все молекулы во мне заменились, как говорил Стивен Дедал, и я теперь совсем другой человек, а не тот, что занимал у вас фунт.
В то зимнее утро, о котором я не хотел говорить, мать уехала в клинику, у нее было праздничное дежурство, за которое давали два свободных дня. Гокас заехал за ней на своей горбатой машинке, вид у него был смущенный, потому что вечером они с теткой читали русские стихи, и ему пришлось признаться, что он кое-что помнит наизусть. Со мной он ни разу не говорил по-русски, и я был поражен, услышав, как чисто он произносит; «смолкает зарей отрез-з-звленная птица», старательно просовывая кончик языка меж зубов. Просто удивительно, с какой радостью все в этой стране забыли русский язык. Не будь у меня няни, я бы тоже забыл, пробавлялся бы чердачными слипшимися журналами, вроде «Нового мира». Не будь у меня няни, тетки и Фомы Аквинского в переводе Аверинцева.
Я проснулся в то мгновение, когда к моей щеке приложили греческую губку, напитанную морской водой. Я лежал в высокой траве, заслонявшей небо сухими колосками, тени они не давали, солнце светило прямо в лицо, мне хотелось пить, но я не мог двинуться с места, как это часто бывает во сне — я не слишком беспокоился, ясно сознавая, что сплю, и просто ждал, когда это кончится. Тот, кто приложил мне губку к лицу, двигался бесшумно и тихо посмеивался. От него пахло табаком и можжевельником, а от морской воды пахло головастиками — понятия не имею, пахнут ли они вообще, но во сне я был в этом уверен.
— Вот потому-то мы, женщины, и непобедимы, — сказал можжевеловый голос. — Мы благоразумны так, что невозможно нам противоречить; милы так, что нам охотно подчиняешься, чувствительны так, что боишься нас обидеть, наконец, полны предчувствий — так, что становится страшно.