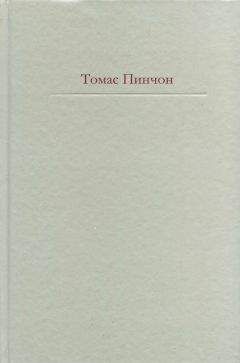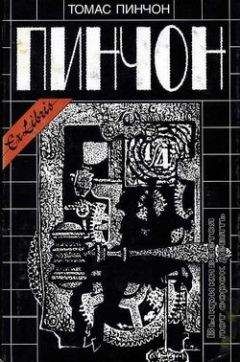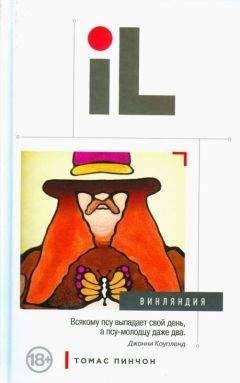— А вот, дамы и господа, как вы уже могли заметить, характерный сажистый окрас кожи… — Все стоят и пялятся на его ушибленный грезами экстерьер, внимательные мужчины с подстриженными бачками держат в руках жемчужно-серые цилиндры, женщины приподымают юбки, чтоб их не замарали эти жуткие азиатские существа, что кишмя кишат микроскопически на старых половицах, а экскурсовод отмечает самое любопытное металлической указкой, инструментом примечательно тонким, вообще-то даже тоньше рапиры, и часто сверкает им быстрее, чем глаз успевает следить… — Тяга его, как вы заметите, сохраняет форму при любых нагрузках. Ни телесное заболевание, ни дефицит поставок, похоже, не действуют ни на гран… — все их ясные, их мелководные глаза мягко плещутся, будто аккорды фортепиано из пригородной гостиной… неэластичная Тяга уже светится в этом спертом воздухе: это слиток превыше любых цен, из него еще можно начеканить соверенов, награвировать ликов великих правителей и пустить в оборот, пусть символизируют. Поехать стоило, чтоб только узреть сие сиянье, стоило долго гнать в санях, по мерзлой степи в огромных крытых санях, здоровенных, аки паром, прекрасно украшенных снизу доверху викторианскими имбирными пряниками, — а внутри для всякого класса пассажиров палубы и уровни, бархатные бары, хорошо укомплектованные камбузы, молоденький доктор Маледетто, которого обожают дамы, элегантное меню, в котором всё, от «Mille-FeuiUes ä la Fondue de la Cervelle» до «La Surprise du Vesuve»[181], салоны изобильно оборудованы стереоптиконами и библиотекой слайдов, дубовые туалеты отдраены до темно-красного, на панелях вручную вырезаны лица русалок, листья аканта, полуденно-садовые формы, чтобы напоминать сидельцу о доме, когда сие более всего потребно, жаркое нутро вознесено тут столь ужасно над головоломным пробегом кристаллического льда и снега, кои можно также наблюдать со смотровой палубы, мелькающие просторы горизонтальной бледности, катящие снежные поля Азии, под небесами из металла намного неблагороднее того, что мы явились сюда созерцать…
Чу Пян тоже их созерцает: вот пришли, потаращились и ушли. Фигуры из грез. Они развлекают его. Они от опия: если что-либо другое, не приходят. Гашиш он старается тут не курить — ну разве только из вежливости. Этот комковатый туркестанский фантазмаген сойдет для русского, киргиза и на прочий варварский вкус, а Чу подавай лишь маковые слезки. Грезы получше, не так геометричны, не так склонны обращать все — воздух, небо — в персидские ковры. Чу предпочитает ситуации, странствия, комедию. А обнаружить те же аппетиты в Чичерине, этом коренастом латиноглазом засланце из Москвы, этом советском содержанте — да тут любой через швабру перецепится так, что мыльная вода зашипит по полу и ведро гонгом блямкнет от изумления. От восторга!
Совсем немного погодя два жалких правонарушителя украдкой выползают на окраины встречаться. Местное общество скандализовано. Из неких глубин мерзостного тряпья и лохмотьев, болтающихся на нездоровом желтом теле, Чу извлекает отвратительный черный ком гадко смердящего вещества, завернутый в обрывок «Enbeksi Qazaq»[182] за 17 августа прошлого года. Чичерин приносит трубку — будучи с Запада, он отвечает за техническую сторону дела, — противное обугленное орудие с красно-желтыми повторами по британию, купленное с рук за горсть копеек в бухарском Квартале прокаженных и, да, к тому времени уже славно обкатанное. Безрассудный капитан Чичерин. Два дурцефала присаживаются на корточки за обломком стены, разваленной и скособоченной последним землетрясением. Мимо то и дело проезжают верховые, некоторые примечают парочку, некоторые нет, но все это — в молчаньи. Над головой в небеса толпой высыпали звезды. До самых глубин страны сдувает травы, и волны их протекают медленные, как овцы. Ветерок мягкий, уносит последний дым дня, ароматы стад и жасмина, стоячей воды, оседающей пыли… ветер, которого Чичерин никогда и не вспомнит. Как не связывает он сейчас эту сырую кашу сорока алкалоидов с ограненными, отполированными и фольгированными молекулами, что некогда одну за другой показывал ему торговец Вимпе и рассказывал их истории…
— Онейрин и метонейрин. Об этих вариациях в «Журнале АХО[183]» сообщил Ласло Ябоп в позапрошлом году. Ябопа снова одолжили — на сей раз как химика — американцам, чей Национальный научно-исследовательский совет запустил массивную программу исследований молекулы морфия и ее возможностей, — Десятилетний План, как ни странно, совпадающий с классическим исследованием макромолекул Карозерса из «Дюпона», Великого Синтезиста. Связь? Ну разумеется, она есть. Но мы о ней не говорим. ННИС каждый день синтезирует новые молекулы, и большинство — из кусков молекулы морфия. «Дюпон» нанизывает такие группы, например амиды, в длинные цепочки. Обе программы, похоже, дополняют друг Друга, не так ли? Американский порок модульного повторения сочетается с тем, что, пожалуй, и есть наша основная цель: отыскать вещество, способное устранить сильную боль и не вызвать привыкания… Результаты пока не обнадеживают. Мы, судя по всему, столкнулись с дилеммой, встроенной в саму Природу, — вроде ситуации Гейзенберга. Обезболивание и привыкание почти исключительно параллельны. Чем больше боли убирает аналгезия, тем больше мы этой аналгезии желаем. Похоже, одного свойства без другого нам не добиться — как субъядерному физику не определить положения частицы без неопределенности касаемо ее скорости…
— Это и я бы вам сказал. Но зачем…
— Зачем. Дорогой мой капитан. Зачем?
— Деньги, Вимпе. Вываливать деньги в сортир ради такого безнадежного поиска…
Откровенно, эдак по-мужски коснуться пристегнутого погона. Пожилая улыбка, исполненная Weltschmerz[184].
— Уступка за уступку, Чичерин, — шепчет торговец. — Вопрос в уравновешивании приоритетов. Исследователи довольно дешевы, и даже «ИГ» может помечтать, понадеяться без особой надежды… Подумайте, что значит отыскать такое средство — упразднить боль рационально, без дополнительной стоимости привыкания. Без прибавочной стоимости — все-таки в Марксе и Энгельсе что-то есть, — успокоить клиента. — Такой спрос, как «привыкание», не имеющий ничего общего с истинной болью, с истинными экономическими потребностями, не связанный с производством или трудом… таких неизвестных лучше меньше, чем больше. Мы умеем изготовлять истинную боль. Войны, само собой… заводские станки, промышленные аварии, автомобили со встроенной аварийностью, яды в пище, воде, даже в воздухе — все это величины, непосредственно увязанные с экономикой. Мы их знаем и умеем контролировать. Но «привыкание»? Что нам о нем известно? Туман и призраки. Любым двум экспертам ни за что не договориться о самом определении. «Принуждение»? А кого не принуждают? «Переносимость»? «Зависимость»? Что это значит? У нас только тысяча смутных академических теорий. Рациональная экономика не может зависеть от психологических капризов. Мы не могли планировать…
Что за предчувствие забилось в правом колене Чичерина? Что за прямое преобразование боли в золото?
— Вы на самом деле такой мерзавец или притворяетесь? Вы действительно торгуете болью?
— Болью торгуют врачи, но никому и в голову не придет упрекать их за это благородное призвание. А едва Verbindungsmann потянется к замку чемоданчика с образцами, все вы с воплями разбегаетесь. Ну что — среди нас вы почти не найдете наркоманов. В медицине их полно, а мы, торговцы, верим в истинную боль, в истинное освобождение — мы рыцари на службе у этого Идеала. У нас на рынке все должно быть взаправду. Иначе мой работодатель — а наш химический картельчик есть модель для самой структуры наций — заблудится в иллюзии и грезе, и настанет день, когда он низвергнется в хаос. И ваш работодатель тоже.
— Мой «работодатель» — Советское государство.
— Аа? — Вимпе сказал «есть модель», не «будет». Удивительно, что они договорились досюда, если, конечно, договорились — с такой-то разницей убеждений и вообще. Вимпе, вместе с тем, намного циничнее, он бы сумел признать и побольше правды — у него порог неловкости выше. Может, он безгранично терпим к чичеринскому красноармейскому изводу экономики. Расстались они и впрямь на дружеской ноге. Вскоре после того, как Гитлер стал Канцлером, Вимпе перевели в Соединенные Штаты («Химнико», Нью-Йорк). Их связь с Чичериным, если верить гарнизонным сплетникам, на этом прекратилась — навсегда.
Но это все слухи. Хронологии их верить нельзя. Везде ползучие противоречия. Идеально, чтобы скоротать зиму в Средней Азии, если вы не сам Чичерин. А если вы — он, ну что — тогда положение ваше скорее незавидно. Не так ли. Зиму коротать придется на одних, считай, параноидальных подозрениях касаемо того, почему вообще вы здесь оказались…