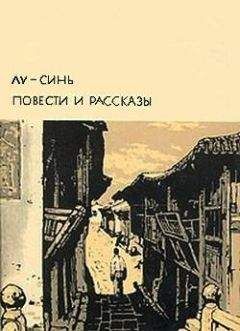— Вот это стратегия! — сказал пораженный князь. — Ну что ж, в таком случае я не пойду на Сун.
5
Отговорив чуского князя от нападения, Мо-цзы думал сразу же отправиться обратно в Лу. Но надо было возвратить Гуншу Баню его платье — поэтому пришлось вернуться к нему. Время было позднее, оба сильно проголодались, и хозяин, естественно, стал уговаривать гостя остаться на обед, или, скорее, на ужин, а заодно и переночевать.
— Я должен идти сегодня же, — сказал Мо-цзы. — Приду на будущий год — преподнесу князю свою книгу.
— По-прежнему долгу и справедливости учите? — спросил Гуншу Бань. — Трудиться, не щадя себя… Помогать ближнему… Все это, земляк, хорошо для черни, но не для знатных — и уж тем более не для государя!
— Ничего подобного! Шелк и лен, рис и зерно производятся чернью, но знать охотно ими пользуется. А долг и справедливость необходимы ей еще больше.
— Что ж, пожалуй! — шутливо отпарировал Гуншу Бань. — Перед вашим приходом я захотел захватить Сун, а теперь пусть мне его подарят — не возьму, раз это несправедливо…
— В таком случае будем считать, что я и вправду тебе его подарил, — шутливо ответил Мо-цзы. — А будешь постоянно следовать долгу — и Поднебесную подарю!
Пока они беседовали и шутили, принесли обед — рыбу, мясо, вино. Мо-цзы отведал лишь мяса, не притронувшись ни к вину, ни к рыбе. Гуншу Бань пил один. Увидев, что гость еле двигает ножом и ложкой, он, чувствуя неловкость, принялся его потчевать:
— Прошу вас, — уговаривал он Мо-цзы, — лепешки с соусом из перца, только попробуйте: весьма недурны. А вот лук не такой сочный, как у нас…
После нескольких чарок Гуншу Бань оживился еще больше.
— Вот я для морских сражений придумал тараны и крючья, — сказал он, — а есть ли они у вашей справедливости?
— У моей справедливости тараны и крючья получше твоих, — твердо сказал Мо-цзы. — Я беру на абордаж любовью и тараню уважением. Если не брать на абордаж любовью — возникает отчужденность, если не таранить уважением — появляется притворство, а отчужденность и притворство разобщают людей. Вот почему взаимная любовь и взаимное уважение равнозначны общей пользе. Ты же сейчас собираешься идти с крючьями на других, а они — на тебя, таранишь других, а они тебя. А идти друг на друга с крючьями и с таранами — значит друг друга губить. Вот почему мои тараны и крючья лучше твоих, созданных для войны.
— Но вы, земляк, своей справедливостью едва не лишили меня чашки риса! — Обжегшись, Гуншу Бань решил переменить тему, хотя не совсем еще протрезвел, поскольку обычно пил мало.
— Но ведь это лучше, чем лишить чашки риса жителей целого княжества.
— Теперь мне осталось только перейти на игрушки… Постойте-ка, я вам что-то покажу…
Гуншу Бань вскочил и кинулся во внутренние покои — слышно было, как он роется в сундуке. Через секунду он появился — в его руках была сорока, сделанная из дерева и бамбуковых планок. Передавая ее гостю, Гуншу Бань сказал:
— Стоит ее запустить — и будет летать три дня. Что ни говорите, а работа — мастерская!
— И все же ей далеко до работы столяра, который делает тележные колеса, — сказал Мо-Цзы, посмотрел на игрушку и положил ее на пол. — Из доски в три цуня толщиной он может вытесать колесо, которое выдержит груз в пятьдесят даней.[429] Искусно и хорошо — то, что полезно. А бесполезное — всегда грубо и плохо.
— Ах да, я и забыл совсем. — Обжегшись вторично, Гуншу Бань окончательно протрезвел. — Уж эти-то ваши слова мне следовало бы помнить.
— Поэтому-то и старайся всегда быть верным долгу и справедливости, — сказал Мо-цзы проникновенно, заглядывая ему в глаза, — станешь тогда не только искусным мастером — вся Поднебесная твоей будет. Но я и так чуть не на целый день оторвал тебя от дела — увидимся на будущий год.
И, взяв свой узелок, Мо-цзы распрощался с хозяином. Гуншу Бань знал, что удерживать его бесполезно. Проводив гостя до ворот, он вернулся в дом и, подумав немного, засунул и сороку, и модель осадной лестницы в сундук, стоявший в дальних покоях.
Обратно Мо-цзы шел медленно. Он устал; у него ломило ноги; провиант кончился, и он чувствовал, что слабеет от голода. К тому же дело улажено, можно было не спешить.
Зато теперь его стали преследовать неудачи. Едва он пересек границу Сун, как его дважды обыскали. Неподалеку от столицы он нарвался на отряд по сбору добровольных пожертвований ради спасения родины[430] — и у него забрали простыню. А возле южных ворот он попал под ливень. Мо-цзы думал было укрыться под аркой, но двое патрульных с пиками отогнали его. Он вымок до нитки и дней десять, если не больше, хлюпал носом.
Август 1934 г.
Большой пустырь, на котором возвышается несколько холмиков. Все поросло бурьяном, деревьев нет. В бурьяне — тропа, проложенная конниками и пешеходами, рядом с ней течет ручеек. Вдалеке виднеются дома.
Входит философ Чжуан-цзы[431], одетый в простой холщовый халат. У него смуглое худое лицо и седеющая борода, которая почти закрывает щеки. На голове — даосская шапка[432], а в руке — хлыст.
Философ. Когда уезжал из дома, воды почему-то не нашлось, и сразу пить захотел. Да, жажда не шутка, просто хоть в бабочку превращайся.[433] Впрочем, здесь даже цветов нет… О, тут заводь! Какая удача! (Подбегает к ручью, отгоняет руками ряску и жадно пьет.) Ну вот, теперь хорошо, можно и дальше ехать. (Отходит от ручья, смотрит вокруг.) Ого! Череп! Что это значит? (Раздвинув траву хлыстом, постукивает по черепу.) Почему ты стал таким, человек? Слишком любил жизнь и боялся смерти? Или действовал всем вопреки? (Стучит, будто ожидая ответа.) Может, ты упал неудачно или получил удар ножом? (Постукивает.) Не совершил ли ты какую-нибудь глупость, не покончил ли с собой, осрамив отца, мать, жену и детей? (Постукивает.) Разве ты не знаешь, что самоубийство — удел слабых? (Стучит особенно энергично.) Наверное, у тебя не было ни еды, ни одежды, поэтому ты погиб? (Постукивает.) А может, ты умер естественной смертью, от старости? (Постукивает.) Или…
Ох, до чего я глуп, вообразил, будто я на сцене. Ведь он не может ответить! К счастью, царство Чу уже близко, торопиться некуда и можно умолить Повелителя судеб[434] вернуть этому человеку жизнь. Воскреснув, он развлечет меня беседой, а потом возвратится на родину, к своим близким. (Обращается на восток, кладет хлыст, поднимает сложенные ладони к небу и во весь голос кричит.) Прими мои искренние, высочайшие почести, о божественный Повелитель судеб!
Налетает порыв мрачного ветра, и появляется сонм душ — мужчин, женщин, стариков, детей. Один из них худые, с растрепанными волосами, другие — толстые, лысые.
Души. Ты действительно глуп, философ! Сед уже, а все еще ничего не понимаешь. В загробном мире нет ни смены времен, ни господ. Это на земле меняются годы, от них зависит даже император. Не занимайся чепухой, поезжай скорее в царство Чу, там и развивай свою деятельность.
Философ. Сами вы глупы, даже после смерти не образумились. Знайте, что жизнь — это смерть, смерть — это жизнь, а раб — это господин. Я постиг истоки всего сущего, и вы меня ни в чем не убедите.
Души. Тогда быть тебе опозоренным, тотчас же…
Философ. Меня защищает милость чуского царя, и я не боюсь ваших угроз! (Снова кричит во весь голос, подняв сложенные ладони к небу.) Прими мои искренние, высочайшие почести, о божественный Повелитель судеб!
Земли жёлты, небо тёмно,
Вся вселенная огромна,
У светил — восход, закат…
Звезды выстроились в ряд.[435]
Чжао, Цянь, Сунь, Ли,
Чжоу, У, Чжэн, Ван,
Фэн, Цинь, Чу, Вэй,
Цзян, Шэнь, Хань, Ян…[436]
Великий старец, стремительный, точно указ! Появись! Появись! Появись!
Снова порыв ветра, души исчезают, и на востоке в туманной дымке вырастает Повелитель судеб, с виду очень похожий на Чжуан-цзы: смуглое худое лицо и седеющая борода, которая почти закрывает щеки; одет в холщовый халат, на голове — даосская шапка, а в руке — хлыст.
Повелитель судеб. Зачем ты звал меня, Чжуан Чжоу? Опять что-нибудь придумал? Или от воды захмелел?
Философ. Недостойный шел к чускому царю и вдруг увидел череп, довольно хорошо сохранившийся. У этого человека, наверное, есть семья, а он, бедняга, лежит здесь мертвый. Уж очень мне его жаль стало, потому и умоляю тебя, Великий старец, верни ему плоть, воскреси несчастного и позволь ему вернуться домой.