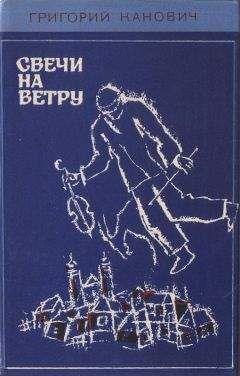— Что ты там везешь? — он брезгливо покосился на мой кожушок, на заячью шапку с отодранным ухом. Предпочел, мол, олух, балахон золотаря полицейской форме.
Ведра умолкли, а война продолжалась.
— Что везу? Картошку! Говядину в соусе! Угощайтесь, господин полицейский.
— Слезай! Не разговаривай!
В бочке ни шороха, ни звука.
Я слез с телеги, распахнул бочку, сунув на всякий случай руку за пазуху, туда, где пуля привыкала к моему сердцу.
Если Ассир выдаст нас, я уложу его на месте. И для него у меня найдется пуля, и для его покровителя.
Сын мясника заглянул в проем и застыл.
— Подлива не нравится? — тихо спросил я.
— Идиот! — еще тише ответил Ассир. — Лучше бы эти дети умерли евреями!.. Проваливай!
— Чего вы там? — поинтересовался немец.
— Ничего, господин ефрейтор.
Ефрейтор затопал к телеге, и у меня потемнело в глазах.
— Шнеллер! — завопил он. — И без вас вони хватает!
Одной рукой я вел под уздцы лошадь, а другой стискивал пистолет: я все еще не верил Ассиру. Вдруг подбежит к немцу и шепнет на ухо: там дети плавают в дерьме, дети, господин ефрейтор…
«Лучше бы они умерли евреями!» Как он только смеет! Кто дал ему право распоряжаться чужими жизнями? Пусть распоряжается своей! Миру не нужны мертвые. Мертвых достаточно на каждом шагу. Разве он сам, Ассир, живой?.. Кукла с голубой повязкой на рукаве вместо бантика… Марионетка, а веревочка от нее — кожаный ремень автомата — на шее у господина ефрейтора… Дернет, и нет сына мясника Гилельса, нет, как и самого мясника.
— Пронесло, — вздохнул Барткус, когда мы обогнули костел и выкатили на городскую улицу. — Откинь крышку! Пусть детишки дышат! Пусть дышат!
Так, с открытыми бочками, мы и доехали до окраины, где в сохранившейся половине царской казармы помещался детдом доктора Бубнялиса.
Встретили нас Пранас и сам Бубнялис.
Доктор был низенький, с пышной копной волос, немолодой и нестарый, в крестьянском полушубке, делавшем его еще ниже.
— Все в баню!.. Немедленно!.. Все! — быстро заговорил он.
— В чужой не моюсь, господин доктор, — сказал Барткус. — Не привык.
Сироты Абеля Авербуха выбрались из заточения и заученно построились в темном, залитом асфальтом, дворе.
— Здравствуйте, дети, — приветствовал их Бубнялис.
— Здравствуйте, — хором ответили они.
— Сейчас мы помоемся, поужинаем и пойдем спать, — сообщил Бубнялис. — А завтра… завтра начнем учиться.
И он первым зашагал к освещенному дому.
Дети плелись за ним, и зловонная жижа стекала на царский асфальт, как кровь.
Когда мы помылись, ко мне в предбаннике подошел Пранас и, сияя от свежести и довольства, сказал:
— Принимай, браток, награду.
В руках у него ничего, кроме полотенца и мочалки, не было, и я усмехнулся.
— Мочалку?
— Кто же за отвагу награждает мочалкой?
— Орден полотенца?
— Бери выше! — сказал Пранас. — Только сначала дай честное слово.
— А я нечестных не употребляю. У меня они все честные, — поддался я на игру.
— Не задушишь меня?
— Тебя задушишь! Шея-то вон какая… как бревно в плоту…
Я не понимал, к чему он клонит, но игра доставляла мне удовольствие. Да и дети следили за нами с радостным любопытством. Кошмар понемногу рассеивался, отодвигался и таял, как пар на остывающем полке.
— Запоминай адрес: Лесная, девять. Спросишь Регину Лейкунайте.
— Лейкунайте?
— Твоя Юдифь теперь не Гутманайте.
Я бросился к Пранасу, вырвал у него полотенце и прикрыл им лицо.
— Ты что?
— Лесная! Девять! Лесная! Девять! — дышал я в полотенце. — Регина!.. Регина Лейкунайте! — повторял я сквозь слезы.
Боже праведный, какое счастье! Скорей! На Лесную! К ней! К Регине-Юдифь Лейкунайте-Гутманайте!
— Эй, ты! Куда ты потащил мое полотенце? — умерил мой пыл Пранас.
Подумаешь — сокровище!
Я вернул ему полотенце.
— Сегодня я тебе не советую туда идти, — предупредил меня Пранас. — Поздно. Потом я тебе еще не все сказал.
У меня оборвалось сердце. Неужели она и впрямь родила какого-нибудь Лейкунюкаса?
— На подоконнике должен стоять горшочек с бегониями. Понимаешь, с бегониями… Есть такой цветок.
— А я в цветах не разбираюсь.
— А в горшках?
— Ну уж горшок я со шляпой не спутаю.
— Так вот, — продолжал Пранас. — Если горшочка на окне не будет, не входи. Ясно?
Пранас всегда говорит яснее ясного. Он такой, недомолвок не любит.
— Не забуду.
Я возвращался в гетто счастливым.
С сегодняшнего дня я там единственный счастливый человек. Спасибо Пранукасу, спасибо.
Интересно, свадебный музыкант Лейзер видел когда-нибудь бегонию?
А служка Хаим?
Он разбирается только в райских цветах.
Юдл-Юргис — вот кто мне растолкует, он же наполовину садовник. У них в местечке был и сад, и огород.
Чем ближе я подходил к гетто, тем сильней нарастал тревожный гул моторов.
Облава!
Не зря же слух лихорадил дома.
Вслед за детьми пришел черед стариков.
На Рудницкой солдат гнал к грузовику старуху. Она еле передвигала ногами, прижимала к плоской груди галошу и умиротворенно шептала:
— Спи, Мотэле, спи!.. Не то придет цыган, схватит тебя и сунет в торбу.
Старуха никак не могла забраться в кузов, и солдат поднял ее, как перышко, и подсадил вместе с резиновым сыном.
Когда я влетел в комнату, над неподвижным, завернутым в саван служкой Хаимом сидели Юдл-Юргис и беженка Сарра. Иногда она приносила из больницы для свадебного музыканта Лейзера глазные капли, а я их закапывал пипеткой. Облава, видно, отсекла Сарру от Вильгельма, и беженка вытирала слезы. Сам свадебный музыкант Лейзер возился у окна со скрипкой, пытаясь привязать к деке оборвавшуюся струну.
— Ложись, Лейзер, — умолял его служка. — Не упрямься.
— Попытка — не пытка, — уговаривал его Юдл-Юргис. — А вдруг мы их перехитрим.
Свадебный музыкант Лейзер приладил струну, оглядел застывшего на полу Хаима, пощекотал ему пятки и бросил:
— Комедия!
— Нехорошо сдаваться, — сказала беженка Сарра. — Не упускайте ваш шанс.
— Послушайтесь, реб Лейзер, — обратился я к нему. — Вы же везучий!..
— Баловень судьбы, — съехидничал свадебный музыкант Лейзер и добавил: — Раз публика просит, я подчиняюсь…
И он завернулся в саван и лег рядом с Хаимом.
— Хоть щекотаться не будет, — обрадовался служка.
— А я щекотки не боюсь, — сказал свадебный музыкант Лейзер. — Меня сколько ни щекоти — никогда не засмеюсь. Кожа у меня такая… как кора…
— Помолчите, — сказал Юдл-Юргис.
— Мы еще, Юделе, намолчимся, — промолвил свадебный музыкант Лейзер. — Что передать твоему отцу — Шмерлу Цевьяну?
Грохот приближающегося грузовика заставил старика умолкнуть.
— Мимо проехал, — сказала беженка. — Мимо.
По улице Стекольщиков грохотали военные машины, слышались отрывистые слова команды, но к нам в ставню так никто и не постучал.
Под утро все затихло: и метель, и грохот.
За окнами пасхальной скатертью стелился снег.
Служка Хаим заворочался, согнул в коленях затекшие ноги, высунул из-за материи желтую физиономию и прошептал:
— Будь благословен во веки наш всемогущий господь! Аминь!
Затем он повернулся на бок, протянул руку и похлопал по спине свадебного музыканта Лейзера.
— Вставай! Слышишь! Вставай! Облава кончилась!
Свадебный музыкант Лейзер не шевелился.
— Сейчас вы увидите, как он не боится щекотки!
И служка принялся шарить у него под мышкой, потом по затылку, потом по паху. Движения Хаима становились все яростней, все чаще. Теперь уже он не шарил, а щипал Лейзера, мял, пока наконец не отпрянул от распростертого на полу тела и не издал протяжный, бесконечный, совсем не старческий, воинственный стон.
— Что ж ты, Лейзерке, наделал? Что же ты наделал? — запричитал служка. — Мы же победили!
И разрыдался.
Вместе с Юдлом-Юргисом я вынес свадебного музыканта Лейзера и положил в снег.
Отпевать его было некому.
По обычаю требовалось десять мужчин, а нас было только трое — я, Юдл-Юргис и Хаим.
Больше собрать все равно не удастся: кто спрятался, кто, с утра пораньше, ушел на работу.
Можно было бы, конечно, похоронить его без всяких церемоний — не очень-то свадебный музыкант верил в бога, — но и закапывать я его не стал.
Какая радость лежать где-нибудь на пустыре, возле отхожей, в одиночку?
Полежит в снегу, и какой-нибудь немец вроде того с гофрированной шеей или Ассир с голубой повязкой на рукаве подберут его и с попутным грузовиком отправят туда, к тем рвам, на те опушки.
Пусть свадебный музыкант Лейзер придет к тем, кому он полвека играл на скрипке.
Нельзя ему лежать одному. Нельзя.