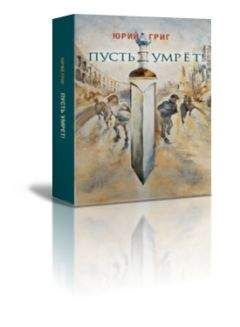В этом месте все опять оборотились к старухе. Послышались возгласы удивления и отовсюду посыпались вопросы:
— А гладиатор? Что сталось с ним? Его убили?
— Трудно сказать, братцы. На шум сбежалась вся дворцовая стража. И тут такое началось! Похоже, многие из них были заодно с заговорщиками. Во всяком случае, в неразберихе, которая там случилась, трудно было что-то понять. Кто говорит, гладиатора убили. Утверждают даже, что сами видели его обезображенный труп. Другие клянутся, что он, продолжая неистово сражаться как будто опоенный каким-то зельем, умножающим силы стократно, и уложив своим мечом еще десяток солдат, скрылся из дворца...
Все как-то сразу поверили в версию Тертула. Отбросив досужие — один нелепее другого — вымыслы, бродившие по городу со вчерашнего дня, принялись жарко обсуждать его рассказ. То тут то там возникала перебранка между сторонниками и противниками бывшего принцепса.
В общей шумихе не принимали участие лишь двое — молодой мужчина и девушка. Они сидели в дальнем углу комнаты по соседству со старухой Сибиллой и, старясь не смотреть в сторону горлопанов, молча поглощали выставленную перед ними еду. Девушка была облачена в груботканую хламиду неброского цвета, а на ее спутнике поверх не подшитого хитона был наброшен солдатский сагум. Рассмотреть подробно их лица в полумраке таверны не представлялось возможным, да и, честно говоря, никто и не обратил бы на них внимание, если бы не порядком набравшийся Полибий.
— Ты здешний, братец? — заплетающимся языком поинтересовался он, обращаясь к мужчине. — Что-то раньше я не встречал тебя здесь.
— Трудно рассчитывать на то, что упомнишь наперечет всех жителей столь большого города, — неохотно ответил тот, продолжая трапезу, не поднимая головы. Лишь быстрый, как молния, взгляд сверкнул из-под бровей. Но, впрочем, это осталось никем не замеченным.
— Я вижу, ты грек? — продолжал допытываться отставной легионер. — Этот говор... А кто твоя женщина, сынок? Жена?
— Что правда, то правда, почтенный муж. Волею богов она мне жена.
— Далеко ли путь держишь?
— Эй, Полибий, оставь их в покое. Ты же видишь, они утомлены и хотят отдохнуть, — попытался оттащить от них назойливого старика Тертул.
— Отчего же,.. я могу ответить, — возразил вдруг незнакомец, жестом прерывая хозяина таверны. — Наш путь долог и тернист. И неизвестно, что ждет в конце его. Но подчас суть не в том, куда направляет наши стопы Фортуна, а в том, откуда исходим... Я отвечу тебе, старик, так: мы держим путь прочь из Рима.
— Ты изъясняешься уж очень хитро. Уж не философ ли ты? Тогда скажи, что ты думаешь об этом случае... с нашим императором?
— Древние учили: всякое следствие имеет свою причину. Это не случай, старик. Зло наказывается злом и не нам этот порядок менять. Другого пока не придумано. Так что надо следовать тому, что предписано богами. А император... я думаю, в свой смертный час он понял, почему так должно было произойти, и смирился перед неизбежным, — туманно промолвил человек, мельком взглянув на старуху-предсказательницу.
Ему показалось, что она одобрительно опустила глаза.
Старуха поднялась и подошла к девушке, нежно провела рукой по ее волосам и что-то неслышно для окружающих прошептала той на ухо. В ответ девушка улыбнулась ей.
Мужчина поднялся, бросил на стол несколько монет, и они покинули таверну.
На улице он помог девушке подняться в повозку.
— Что она тебе сказала?
— Она предрекла, что скоро у меня родится мальчик… Мы назовем его Филипп, — ответила она с мечтательной улыбкой.
Ее спутник тоже улыбнулся и, не проронив ни слова, решительно потянул поводья. Низкорослая лошадка, всхрапнув, сделала первый шаг.
Вскоре они преодолели подъем на Эсквилин; слева темным пятном замаячили сады Мецената, и они приблизились к развилке трех дорог. Здесь, не колеблясь ни секунды, мужчина натянул левый повод, и лошадка послушно выбрала Тибуртинскую дорогу, ведущую к Адриатическому морю в Атернум…
На рассвете седьмого дня после сентябрьских ид небольшой отряд всадников легкого кавалерийского эскадрона вынырнул из утреннего тумана, который протяжными молочными языками лизал не успевшие еще пожелтеть купы акаций и растекался перламутровым киселем по низинам, куда время от времени ныряла Латинская дорога. Подковы коней извлекли из древних камней снопы искр, и, издавая отрывистое стаккато, отряд продолжил свой путь на юг.
Преодолев путь в двадцать пять миль, всадники миновали Латину и свернули на узкую, извилистую дорогу. Обдав клубами пыли двух любопытных пастухов, застывших на обочине с раскрытыми ртами, они помчались в сторону моря. В скором времени на холме перед ними показалась усадьба, и стук копыт поглотила аллея, упирающаяся в ворота, маячившие в конце тоннеля, образованного ветвями. Спустя минуту запылившиеся всадники въезжали в обширный двор.
По всему было видно, что отряд здесь ждали. Из дома уже выбегали рабы — одни, ловко подхватив коней, повели их в стойло, на ходу обтирая пену с морд усталых животных; другие подносили солдатам кожаные фляги с прохладной колодезной водой. Командир отряда, жадно глотая воду на ходу, решительно направился к дому. Перед тем как войти, он швырнул пустую флягу на землю.
Внутри, в тишине и прохладе атриума, на ступенях, нисходящих к имплювию[43], его поджидал Петроний Секунд. Поверх туники, на плечи была накинута легкая лацерна, окрашенная в тирийский пурпур и скрепленная на правом плече фибулой в виде камеи из сардоникса. На камее был изображен закогтивший извивающуюся змею орел.
Когда солдат показался между колонн, Секунд промолвил, не поднимая головы:
— А, это ты, Варрон? Привез известие от нашего пылкого молодого человека?
— Да, господин, — ответил солдат, отирая запыленное лицо и протягивая Секунду пергамент.
— Что слышно на Палатине? В городе, надеюсь, спокойно? — спросил Секунд, принимая письмо.
— Благодарение богам, все потихоньку унимаются.
— В добром ли здравии Агриппа?
— Молодой человек пребывает в отменном здоровье...
— Хорошо, можешь пойти и отдохнуть, Варрон. Я приказал, чтобы твоих людей накормили.
Секунд дождался, когда солдат покинет атриум, и когда тот скрылся, он развернул свиток и погрузился в чтение.
Агриппа писал:
«Приветствую тебя, Петроний, дорогой друг мой и брат!
Позволь называть тебя так, поскольку только этим словом могу выразить свою любовь к тебе. Поистине ты стал мне старшим братом и особенно сейчас, когда рука об руку прошли мы столь многотрудный путь.
Прежде, чем известить тебя о делах, позволь поделиться тем, что лишает меня сна. Это не любовь к очередной прекрасной деве, как ты (зная меня, конечно) мог бы предположить. Увы, нет, мой друг. Размышления о том, кто мы римляне — откуда и куда держим путь, и что с нами происходит, лишают меня сна.
В последнее время я увлекся чтением Цицерона. В своих диалогах «О дружбе» этот честнейший муж излагает мысли, кои я без малейших колебаний могу признать и своими. Особенно мне близко его рассуждение о том, что дружба даже ценнее, чем узы родства, ибо родственники могут разойтись, но при этом их кровные связи, данные самой природой, остаются, чего лишены друзья, — расставшись, они не имеют такой привилегии, как первые, ибо, если чувство благожелательности пропало, то дружба уничтожается. Друзья должны помнить о таковой опасности и беречь то, что дано им свыше, — истинную дружбу.
К чему я это пишу? Дело в том, что понятие дружбы, как и многих других человеческих добродетелей, здесь в столице извратилось. Этот дар бессмертных богов давно уже понимается скорее как обязательство помогать в делах бесчестных и быть готовым к пособничеству в противозаконии нежели как возможность «иметь рядом человека, с которым ты решаешься говорить, как с самим собой». Последняя мысль тоже принадлежит Цицерону, но я полностью ее разделяю и счастлив, что у меня появился такой друг как ты.
Воплощая (вместе с тобой) замысел во благо Рима, я многое понял, и более уже не тот, кем был доселе. Мои глаза открылись на многое, что ранее проносилось мимо незамеченным. Я узрел своим «душевным оком» пороки, подтачивающие общество подобно тому, как червь точит созданный природой совершенный плод; как нынче (до того вполне добропорядочные) матроны, погрязшие в прелюбодеянии, предпочитают объявлять себя продажными девками, дабы избежать справедливого наказания, и тем опускаются еще глубже в пучину разврата, а мужья вместо того, чтобы строго наказать развратниц, наряжают их в шелка и украшают драгоценностями; вольноотпущенники, еще вчера сами бывшие рабами, сегодня купаются в роскоши и сорят деньгами.