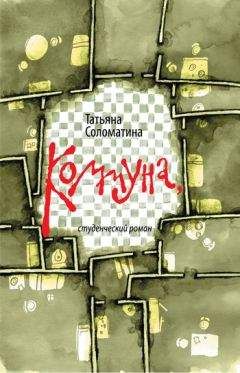— То есть приговор, — перебил Мастаев.
— Ай, если это все на высшем уровне, то без проволочек. И они должны вновь объявиться через день-два, максимум — три.
— Честь погребенным в гроте! — вроде не унывает Ваха. — Хотя бы на родной земле.
Наступило уныние, которое нарушил более молодой:
— А если?
— А если с ходу не получается, то у нас есть шанс существовать. Даже не один год, может, здесь, а есть еще варианты.
— Вы это уже проходили, — прозвучал не вопрос.
Кнышевский уронил голову.
* * *
Кнышевский и Мастаев. Русский и чеченец. Православие и ислам. Огромная мировая держава и маленькая клокочущая территория. Зрелый человек и вступающий в зрелость. Офицер и сержант. Эрудит, за спиной которого «Общество «Знание» и колоссальный государственный ресурс и самоучка, узаконенный тем же государством дурак, террорист. Сверхбогатство и нищета. Триумф и трагедия. Жизнь в роскоши и жизнь в нужде. Поводырь и ведомый. Хозяин и работник. Победитель и проигравший. Драма и фарс. Потому что один грот, единая судьба, единая Россия, един мир, как и един Бог!.. И что должны думать люди, приговоренные к смерти другими людьми, а не Богом? Наверное, грезить о райских кушах, о будущем вселенском блаженстве и всепрощении, о равенстве и справедливости в Судный день, в конце концов о парадоксе мира людей, нарушающих законы, зная, что их не нарушить, ибо что посеешь, то и пожнешь. Однако только не это: вместо величия — кандалы, вместо славы — тьма, вместо силы — позор; пустота неосуществленности, готовая поглотить жизнь, и сама жизнь, как поражение.
В основе трагедии только сатира. И все разговоры о достижениях становятся жалкими. Если итог жизни человека определяют такие же человеки, то какова горечь поражения, потери, разочарования и нереализованности по иронии судьбы бередит кровь тех, кому завидовал мир?!
.. Кнышевский сломлен, раздавлен. В припадке безумия он бьется головой о стену. А Мастаев, хоть и держится пока, все мечется по гроту, повторяя одно и то же:
— А я за что? При чем тут я? Что они хотят с меня, нищего, к тому же дурака, взять?
Так продолжалось не одни сутки, а уже третьи на исходе, как они встрепенулись, словно по команде вскочили, бросились к замурованному окну, через щель которого можно было определить день на дворе или ночь — ночь, а вертолет прилетел, словно страшное всепожирающее чудовище явилось проглотить их, уже будучи проглоченными другим, менее сильным чудовищем.
Однако пока пронесло. Даже двигатель не выключали. Наверное, что-то разгрузили-погрузили — это догадки узников, а мысль иная: «с ходу — не получилось», у них еще есть шанс жить, хоть как-то жить. Оба сразу воспрянули духом и крикнули охране:
— А нельзя ли коньячок и сигары?
— Не доставили, — был ответ, а потом: — Хватит болтать, спать пора.
Теперь не спалось, ведь жизнь в любой ипостаси желанна. А парадокс ситуации в том, что, как любой узник, они мечтали выбраться из заточения, а теперь, наоборот, каждый час и день давали им надежду хоть на какой-то жизни срок.
Через восемь дней повторилось почти то же самое представление, с теми же декорациями, умыванием, костюмированием, да, как понял даже Мастаев, суть была несколько иной. Ибо даже Кнышевский, хоть и вынужден был исполнить все указания, но при этом позволил себе пару раз в адрес бывших партнеров съязвить.
В этом плане узники попытались выступить в некоем тандеме. Вместе с тем операцию проводили тоже не профаны, и они как бы ненароком подсунули Мастаеву какие-то документы, и тут же:
— Ах, нет-нет, это вы не должны подписывать, чуть не ошиблись.
А Мастаев, думая, что это он ошибся, еще более всмотрелся, даже выросшим грязным ногтем эти нули обсчитал. И все завершилось, вновь они в гроте, а Ваха в шоке:
— Девять нулей?! Ведь это миллиард! Миллиард!.. Вы миллиардер? Вы олигарх? НПЗ и Старогрозненское месторождение. И для кого война, а для кого.
— Замолчи, замолчи! Теперь я нищий, все потерял.
— Так это прекрасно! — декламация в тоне и жестах Мастаева. — Вы, впрочем, как и я, изначально были и вновь стали истинным пролетарием, которому нечего терять, кроме своих цепей! ПСС, том.
— А-а, я тебе дам ПСС, ты у меня получишь том, — визжа, бросился Кнышевский на Мастаева.
Эта схватка закончилась тем, что их вызвали обоих, здорово избили. К тому же еще одна неприятность — ожидаемых коньяка и сигары, как после прежнего представления, не было.
А дальше все пошло, как предсказывал Кнышевский. Их не то чтобы позабыли или потеряли к ним интерес, к ним стали относиться как к простым заключенным, у которых никаких прав и привилегий, зато теперь на руках и ногах оковы. А на исходе сентябрь, надвигалась жесткая, как всегда в горах, дождливая с ветрами погода. Эта сырость сразу же стала давить на больные легкие Мастаева:
— Мы здесь зиму не протянем, — сказал он Кнышевскому, а охране на чеченском крикнул: — Дайте что-нибудь потеплее. Мы тут околеем.
— Потеплее, сейчас, — охранники вызвали обоих на выход и так отдубасили, пока оба раз двадцать не подтвердили, что им очень жарко.
А когда Кнышевский пожаловался на питание, — избиение было еще усерднее:
— Вы жрете, как и мы, и вам все мало?
Больше жаловаться не смели. А вот охранники, как и пасмурная погода, стали тоскливыми. Уже стало ясно, что это два брата. И совсем они не молодые, чтобы на такое пойти. Ваха уже четко определил, что эти верзилы не здешние, по крайней мере не из ближайших Нохчи-Келой, Кири или Дай, хотя прикидываются местными.
Прежде, когда наведывался вертолет, то эти молодчики вели себя подобающе, видать, не только погода и питание, но и стимулирование было приличным. Теперь все изменилось, и узники все реже слышат снаружи разнузданный от анаши смердящий вопль, хотя вонью травки потягивает. Да вот, как вершитель судеб, вдруг послышался средь ночи рев вертолета. К узникам даже не заглянули, наверное, на мониторе их видно. А вот сами охранники пожалобились. Их, конечно, не били, да в ответ был такой отборный, командный, восьмиэтажный мат, что даже Кнышевский сморщился.
Вертолет скоро улетел, а вот охранники с тех пор явно осмелели: они по очереди, когда вздумается, стали по одному отлучаться то на сутки, а то и более. Младший, он и ростом был поменьше, коренастее, и совсем не разговорчивый, наверное, потому что не только по-русски, даже по-чеченски очень плохо говорил, — Мастаев не мог понять, что это за диалект, — явно не здешний.
Зато старший брат, он и отлучается реже, шибко языкаст, он и бить любит и умеет — обучали. В отличие от младшего, который ни одну молитву не пропускает, старший часто и основательно водку жрет. Вот тогда он, как спиртное пошло, любит с Кнышевским на разные темы о мировой политике поболтать, а может, в окно из пулемета под ноги — гопак, иль над головами — под нары, и еще хуже — на выход, и тогда огромными кулаками в печенку и по почкам сапогом, и почему-то с особым остервенением своего земляка.
После такой профилактики Мастаев еще день встать не может, и Кнышевский, как великую тайну, доверительно шепчет:
— Я ведь как-никак агитатор-пропагандист — вот этот явно поддается любой идеологии, настоящий пролетарий.
— Да плебей он, — отхаркивает кровь Ваха.
— Тс-с, потерпи, я уверен, что смогу ему мозги прочистить.
У них действительно завязался диспут, больше говорил Кнышевский, и тогда он входил в роль и будто перед огромными массами, даже слегка как вождь картавя, говорил:
— Товарищ! Какую бесполезную грязную лакейскую роль сыграл ЦИК в Москве. Бросил идею отсрочки, подлая кампания в печати, казачий съезд… Эти холуи петушком побежали, как собака поползли на хозяйский свист, под угрозой хозяйского кнута. Эти лакеи вновь хотят отсрочить выборы. Кто не дошел до полной подлости, должен сплотиться вокруг партии революционного пролетариата. Без его победы ни мира народу, ни земли крестьянам, ни хлеба рабочим и всем трудящимся не получить…[182] ПСС, том 34, страницы 84–85.
— Это Ленин? — удивляется старший бородач. — Вот это да! То же самое и сейчас. Нагло врут, народ оболванивают, а выборы — сплошь подстава. А кстати, разве этот Мастаев не выборами руководил? А ну на выход, плебейский сын. Продался русским?
Сами охранники то ли брезгуют, то ли какой-то суеверный страх перед древними останками скелетов. В общем, они в грот не заходят, да и нелегко им будет — проход маловат. А вот Ваха под командами «быстрее», в три погибели согнувшись, еле вылезает наружу — и с ходу удары, так что после он едва вползает, а порою, как, к примеру, в этот раз, его старший охранник после экзекуции сам зашвырнул.
— Терпи, терпи, ты ведь истинный пролетарий, к тому же горец-чеченец, — теперь уже Кнышевский ухаживает за Вахой. — Я уверен, что этому башку я смогу вскружить. Что-то получится, — и он опять ведет свою политпропаганду, и неудивительно, что они затронули всегда актуальный национальный вопрос. Может быть, у Кнышевского и был свой взгляд на эту тему, однако он и здесь положился на гений вождя.