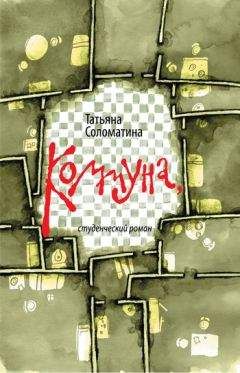— Под лозунгом «национальная культура» проходит на деле раздробление рабочих. Есть только одно решение национального вопроса — это последовательный демократизм. Национальная программа демократии — никаких привилегий ни одной нации, ни одному языку… Поэтому «национальная культура вообще есть культура помещиков, попов, буржуазии. Кто защищает лозунг национальной культуры, — тому место среди националистических мещан, а не среди марксистов. Великие всемирно-прогрессивные черты в еврейской культуре: ее интернационализм, ее отзывчивость на передовые движения эпохи (процент евреев в демократических и пролетарских движениях везде выше процента евреев в населении вообще). На вопрос — к какой национальности вы принадлежите? — рабочий должен отвечать: я социал-демократ. Остается та всемирноисторическая тенденция капитализма к ломке национальных перегородок, к стиранию национальных различий, к ассимилированию наций, которая с каждым десятилетием проявляется все могущественнее, и всякое противопоставление одной национальной культуры в целом другой якобы целой национальной культуре и т. п. есть буржуазный национализм, с которым обязательна беспощадная борьба!»[183] ПСС, том 24.
— Постой, постой, — словно пробудился охранник. — Повтори последнюю фразу. Ага, «обязательна беспощадная борьба». Вот в этом Ленин прав. А ну, жид Кнышевский, на выход.
Видимо, с Митрофаном Аполлоновичем старший охранник только поразмялся, загнал обратно. А потом кликнул чеченца:
— Теперь ты вылезай, христопродавец-ассимилятор. Делал подтасовку на выборах? Отвечай!.. Все наши беды из-за тебя.
Вдоволь помятый Мастаев еле вполз в грот, а Кнышевский успокаивает:
— Ты, Ваха, терпи. Сколько раз сам вождь в ссылке был. А пропаганда — мощнейшее оружие.
— Замолчите, идиот! — наверное, впервые так груб Мастаев со старшим. — Он и без того бандит, а вы его еще делаете большевиком, — чей призыв — насилие, насилие над ближним.
— Ты, может, прав, — после недолгого раздумья согласился Кнышевский. — Большевики репрессировали всех, а потом и сами себя. Ужас. Все закономерно: я репрессировал, сам репрессирован. Какой кошмар, — он обхватил голову обеими руками, а кандалы, словно огромные, несуразные очки на его обросшем лице, по которому щедрым потоком пробивали грязь слезы.
* * *
Ваха знал, что дела его плохи и скоро наступит конец. В горах, в таком высокогорье, зима приходит внезапно, однажды ночью задуют фёны[184] с вечных ледников и сразу ляжет снег, температура — в минус. Сырость, удушающий запах плесени и лишайников зимой добьют его пораженные легкие. Он уже ощущает эту боль, как неминуемый конец. И если бы он, как Кнышевский, так и остался бы на позициях ленинизма, то итог классовой борьбы давно известен: рабочие и крестьяне бесправны, кто попытается соображать, тем более возражать, — репрессия. А власть? Мастаев помнит, как в самый тяжелый, голодный и смутный год для России Ленин своей жене Крупской писал: «15.06.1919 г. Волга. Пароход ВсеЦИКа «Красная Звезда». Ульяновой. Дорогая Надюша!.. Надо строже соблюдать правила и слушаться врача. На фронтах — блестяще, будет еще лучше. Вчера и 3-го дня были в Горках с Митей и Аней. Липы цветут. Отдохнули хорошо. Крепко обнимаю и целую. Прошу больше отдыхать, меньше работать. Твой Ульянов».
Ныне эпистолярный жанр канул в Лету. Теперь неизвестно, что говорят сильные мира сего по телефону своим возлюбленным, загорающим на яхтах где-то в тропиках Индийского океана. Впрочем, и правители, наверное, там, современная связь командовать отовсюду позволяет. А если с диалектических позиций — просто Мастаев проиграл, неудачник в жизни, завидует. Ну а если совсем объективно, то ведь Ваха не зря слывет невменяемым. И вправду он на мир с неких пор смотрит иным взглядом, и его, может быть, больное воображение высвечивает иной ракурс картины мира — это древний миф и ритуал, кои с помощью аналогии сделают возможным, а затем все более простым столь резкий переход, нет, не смерти и тем более не конца, а наоборот, вечности, вселенской вечности. Ведь миф или сказка — это не просто намек относительно истины, это откровение — небытие, в которое разум должен сам погрузиться и раствориться в нем. И тогда эти древние, извечные символы, нареченные божественным, приводят в движение и пробуждают дух и зовут его смело по ту сторону самого себя. Ведь герой — это тот, кто знает и представляет в мире зов сверхсознания, которое проходит сквозь все творения мира. И подвиг героя или его приключение — это тот момент жизни, когда он достигает просветления, — кульминация! Когда он, будучи жив, обнаруживает и открывает дорогу к свету по ту сторону темных, каменных стен нашего бренного существования. И надо помнить, что древний символ и миф, а тем более святые писания — это выражение глубочайшей морали, это вершины сознания, а не бездны тьмы. И в очередной раз осознав все это, Мастаев по-новому оглядел этот древний грот и понял, что это вечный храм, святое место, а на стенах вроде грубые, примитивные рисунки, да в этих символах не только намек, но вся разгадка. Ему надо действовать, то есть показать свою культуру. И если ранее это были танцы «на сердце чудовища», то теперь надо победить словом, мыслью, знанием.
— Митрофан Аполлонович, — громче обычного, надеясь, что и охранник слышит, начал свою историю Мастаев. — Вот видите, на стене нарисована детская колыбель. Особенность этой люльки в том, что у нее ножки дугой, то есть это люлька-качалка. А в ней, если это древние времена, находится ребенок невольника, пришлого или прислуги, но не ребенок свободного горца-чеченца.
— С чего ты это взял? — вдруг голос снаружи. — Продолжай, скука с вами съедает.
— В такой люльке-качалке ребенок, чтобы не выпал, должен быть за ручки и ножки крепко привязан к колыбели. А горцы-чеченцы всегда считали, что с рождения ребенок должен ощущать свободу тела и духа, поэтому в люльку-качалку чеченских детей не клали.
— К чему ты все это? — заинтересовался старший охранник.
— А я про традиции и историю этого почти родного края. Рабство, в той или иной мере, существовало всегда. В древности невольникам не разрешалось жениться. Однако в чеченском обществе, где ценили свободу, всем позволялось заводить семьи. Но невольница-мать все равно должна была работать, вот почему в горах появились качалки: привязав веревку, невольницы могли и на расстоянии выполнять свою работу, подергиванием покачивая колыбель, давая ребенку знать, что мать рядом.
— К чему это цацканье? — раздраженным стал голос снаружи. А Мастаев продолжал свой рассказ:
— В древности границей между чеченскими тейпами в основном служили горные реки. Среди чеченцев никогда не допускались родственные браки. Когда парень из одного тейпа желал жениться на девушке из другого, то он и она должны были пройти некий ритуал.
Родственники девушки шли вверх по течению и бросали в речку просяной чурек. Молодой горец должен доказать свою зрелость, что он может быть и охотником, и защитником, и воином, и кормильцем: он должен в стремительном течении стрелой поразить цель — чурек. Если это получилось, раздавались громкие возгласы одобрения. И тогда внизу по течению в свою очередь будущей хранительницей очага вступает невеста. Она тоже должна доказать, что сможет сохранить и приумножить добычу жениха, ее задача — с помощью специального чана выловить в бурном течении этот чурек со стрелой. Если она с этим справилась, то она готова и согласна стать женой.
И вот с этим чаном, в котором чурек и вода, она в окружении своих подруг и родственников идет на противоположный берег, в другой тейп, где ее еще не может видеть молодой жених. А девушка-невеста должна пройти основной ритуал — мотт бастар.[185] Ее встречает старейшина рода жениха, забирает чан с водой и спрашивает:
— Могу я выпить?
Смысл прямой. Потому что в языческие времена горцы потребляли во время праздников чагіар,[186] нихъ.[187] И тогда они могли излишнее говорить, при этом могли раскрыть тайны своего рода. И у них должна быть уверенность, что невеста не унесет эти разговоры за речку, у нее, тем более у ее детей, отныне будет иной тейп, и она с этим согласна, поэтому говорит:
— Пейте на здоровье.
На что старейшина отвечает:
— Пусть все, кто любят и нуждаются в этой воде, любят и уважают тебя, наша благословенная невеста. Приходи свободной в свободный дом.
После этого Мастаев надолго замолчал, а охранник недовольно:
— К чему эта басня? В чем здесь мораль?
— А мораль и история в том, — продолжал Ваха, — что в эти места пришел враг. Был бой, все полегли. Осталась одна наша героиня с грудным ребенком. И она вынуждена была обвязать ребенка в колыбель-качалку, дабы иметь возможность работать. С тех пор вместе с молоком матери некоторые горские дети впитали чувство изначальной скованности, ограниченности и ущербности в жизни. Для них чеченское «Маршал», «Маршо» — «Свобода» воспринимаются в несколько ином, искаженном виде.