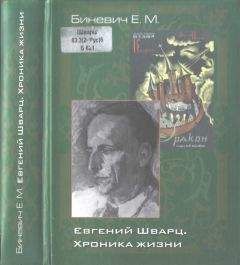Он отобрал несколько листков и сунул их Гвидону. Тот вгляделся и ахнул:
— Точно! Он, паскудья морда! Натуральный Иуда! Точней не выпишешь!
— И ещё скажу… — издалека начал Шварц, преодолевая сомнение. — Не хотел, да чего уж… Понимаешь, дольше всего образ самого Христа искал. Где бывал, везде в лица всматривался: в магазине, в транспорте, на заседании выставкома, везде. В метро спускаюсь — смотрю, всё время образы какие-то ищу. Ни-че-го… И уже почти встретил его, настоящего, ну самого-пресамого Иисуса, какого надо, а он, понимаешь, козлина, сел в вагон, на «Новослободской», а потом: «Осторожно, двери закрываются!» — и привет вам, Иисус Христосыч! Убыл в свой тоннель. Так я его хорошо и не словил.
— Ну и как ты его нашёл? — с неподдельным интересом спросил Гвидон, заслушавшийся рассказом вновь обретённого друга.
— Как? — Шварц довольно хмыкнул: — Да так! На, гляди! — Он отобрал один из рисунков и протянул его Гвидону. — Узнаёшь?
Гвидон всмотрелся и приоткрыл рот:
— Оп-па… Не может быть…
— Да! — Шварц выпрямил спину, приподнял подбородок, слегка по-императорски, и налил. — Это ж ты, Гвидоша. Натурально! Я уж совсем замучился, а тут меня осенило просто — так это ж Иконников, твою мать! Ну чем не Христос? Длиннорукий, как раз для распятья, худощавый, измученный жизнью, как все мы, но только с правильной физиономией. Надел мысленно на тебя парик, усы добавил, бороду и понял — беру. Тем более лицо знаю в деталях, вроде как на натурщике сэкономлю опять же. В глазах стоишь все годы, негодяй. И это… извини, если не угодил.
— Надо к девкам как-то работу переправлять, к Ницце. Делать супериздание Нового Завета. Будет бомба, — проговорил Гвидон, всматриваясь в самого себя.
— Хотелось бы… — мечтательно согласился Шварц и снова налил обоим. — Кстати, ещё одно дело. От Джона осталось. Рукопись, на языке. Тоже б надо переправить. Чего там в ней, не знаю. Но надо ж ведь. Так?
— Так, — подтвердил Гвидон, и они опрокинули ещё по одной налитой.
За окном мастерской стояла вторая по счёту жижинская ночь после осеннего противостояния, продлившегося без малого тридцать пять лет…
В лондонском Хитроу их встречали Ницца и Боб. Получив звонок отца, она долго не могла прийти в себя. Не верила, что это когда-нибудь случится. Но случилось. За прошедшие восемь лет плакать пришлось дважды. В первый раз, когда стало окончательно ясно, что русские не впустят обратно Приску и Триш. Да и плакала больше за компанию, из родственной солидарности. И не полноценную слезу пустила, как приёмная мать и тётка, а так, увлажнила себе глаза, и не слишком сильно. Второй раз — сильно и горько, когда из России пришло известие о кончине Джона. Того любила искренне и не забывала никогда. А вообще, разучилась плакать. Да и некогда стало потом, даже если и находились поводы. Карьера стремительно набирала обороты. К середине восьмидесятых получила назначение — вице-президент «Harper Foundation» по странам Западной и Восточной Европы. «Харпер-Пресс», обретя нового руководителя, всё равно остался внутри её ведомства, и она продолжала курировать своё детище, уже находясь высоко над ним. Боб к моменту перехода жены в новую должность тоже не ударил в грязь лицом. Получил лабораторию в своём институте и вышел на пенсию в «параллельной» специальности, полностью переключившись на науку. Из прошлых заслуг перед самим собой наиболее высоко ценил две: вывоз Штерингаса из России и счастливый брак с его бывшей девушкой.
В общем, узнав, что у отца с Юликом на руках английские визы, Ницца разревелась жижинской коровой и ревела долго и вкусно, так что Боб даже не пытался её унять. Спросил только:
— Может, в русский магазин сгонять? Капустки какой, грибочков? Или черняшки бородинской?
В Хитроу отстояли в обнимочную очередь: сначала — Ницца, стильная, сорокапятилетняя, с тонкими чертами заплаканного лица, — с худощавым длинноруким отцом, мало изменившимся за двадцать три года, минувших от начала её психушки, а затем — с Юликом, седым, с чувствительно подросшим к его шестидесяти восьми носом и выдвинувшейся из остатков волосяного покрова лысиной. И только после этого выговорила, сквозь неунимающиеся слёзы, третьи по счёту за восемь лет:
— Я им ничего не сказала про вас. Хотела сюрприз. Убийственный. Привезу и позвоню в дверь. А вы войдёте.
— А не опасно? — насторожённо спросил Гвидон. — Моя-то слабая, она ведь только с виду бойкая, а на деле может подвести. Это Триш у нас такая вся из себя трепетная, а внутри-то покрепче моей будет. Да, Юлик?
Тот замялся, отчего-то не приняв шутку в полной мере, но всё же отреагировал:
— Самые некрепкие — это мы с тобой, два старых сентиментальных идиота. Как бы нам самим не подвести никого.
Для начала поехали к Хоффманам. Там выпили с дороги чаю, и Ницца сделала проверочный звонок на Карнеби-стрит — кто там дома и как. На звонок ответила Прис — сидела, работала. Сказала, Триш на занятиях, в школе, а племянница где-то по своим делам носится, по консерваторским. Как сама?
— Хочу заехать, — стараясь сохранить в голосе привычные интонации, ответила Ницца, — две недели не виделись, соскучилась.
— Конечно, милая, жду тебя. Скоро Тришка вернётся, выпьем вместе чаю.
— А Норик?
— А Норик — через пару часов, наверное. Так что застанешь и её.
Они приехали через час. Решили брать бастион постепенно, рубежами, чтобы дело выгорело без валерьянки. Ницца позвонила снизу:
— Это я, Прис, открывай, — замок клацнул, и она объяснила мужчинам: — Поднимаетесь на четвёртый этаж, апартамент семь. Я приеду через пару часов. Не хочу вам сейчас мешать. Всё, вперёд, мужики! — И добавила, с нежностью в голосе: — Пап, я на тебя надеюсь. Юлик, и на тебя, — и они с Бобом уехали.
Мужики позвонили в дверь, но первым вошёл Юлик — Гвидон опасался, что у него не хватит сил подхватить жену. Однако Прис не завалилась на пол, увидев Шварца. Она просто медленно опустилась на паркет, там же, где стояла. Молча. Еле слышно спросила:
— Умер?
— Кто? — раздался голос из-за Юликовой спины. — Я, что ли? — И бросился на пол, к Приске. Там же они и сцепились, вжавшись друг в друга. Там же, не вставая, и отрыдали положенное время. А когда поднялись и снова опустились, на этот раз уже на гостиный диван, Гвидон спросил:
— А что тебя больше удивило — что я здесь или что мы со Шварцем помирились?
— То на то, — подумав, ответила счастливая Приска и снова пустила слезу. Промокнув мокроту, спросила: — Как мой Ванечка? Есть фотки? С ума схожу, как скучаю по мальчику моему.
— Одну минуту, — ответил Гвидон. Быстро справившись с чемоданными замками, откинул крышку и вытянул лежащую под сеткой пачку чёрно-белых фотокарточек. — Извини, что не в цвете, Присуль, я уж по старинке, «Зенитом», как умею. Не люблю эти мыльницы новомодные, безрукие.
Фотографий было с десяток, разных. Ванька с отцом, Ванька во дворе их жижинского дома колет дрова, он же в мастерской, за гончарным станком, на станке — горшок из глины, уже обретший цилиндрическую форму, но ещё с не доведённым до нужного диаметра верхним раструбом. Негустая молодая борода, такие же юные усы. Волосы, длинные, забранные назад, под резинку. А вот он же, но уже с распущенными волосами. В джинсах и клетчатой ковбойке на фоне разрушенной жижинской церкви. И наконец… Её мальчик, Иван Иконников, в чёрном подряснике, руки, соединённые на груди, строгий, возвышенно-серьёзный взгляд молодого человека, не похожего на себя. Другой. Задумчивый, взрослый, незнакомый. Семинарист. Рядом — батюшка, в рясе, лет под шестьдесят. Сзади фоном просматривается знакомый вид — церковь Святого Даниила в Боровске.
— Это что? — Прис задала этот вопрос, не отрывая мокрых глаз от фотоснимка.
— Это тоже твой сын Иван, — ответил Гвидон и прикусил губу, так что стало больно. — Это когда он вернулся из Загорска, к себе, в боровскую церковь. Он там пока алтарником. Женится — получит сан, будет служить. Наш с тобой сын будет священник, Прис. Такие дела, милая.
— Я всегда знала, что он необыкновенный ребёнок, — проговорила Прис, продолжая неотрывно всматриваться в фотографию. — Ницца в курсе?
Гвидон мотнул головой.
— Нет. Он же тема запретная, сама знаешь.
— My God… Не верю… не верю… мой муж… мой сын… мои любимые… Юлик… и вы здесь… со мной… я уже думала, никогда этого не случится… Нет больше Союза… и коммунистов больше нет… ничего нет… и всё теперь есть… и все…
В этот момент они услышали, как открывается дверь в апартамент.
— Триш, — коротко сказала Приска и посмотрела на Юлика. Тот сидел бледный и напряжённый. Ни слова не говоря, Гвидон поднялся и вышел в прихожую. Встретить жену друга, а заодно подставить себя под первый удар. Тоже исходя из принципа, разработанного умной Ниццей, — бастион должен устоять, потому что ещё неизвестно, имеется ли в доме валерьянка.