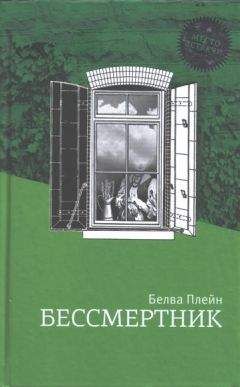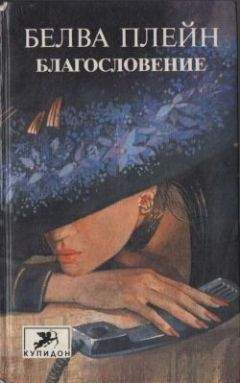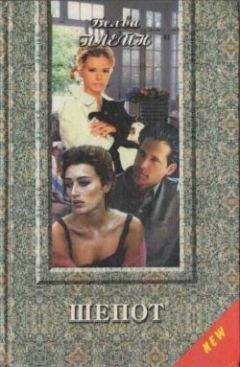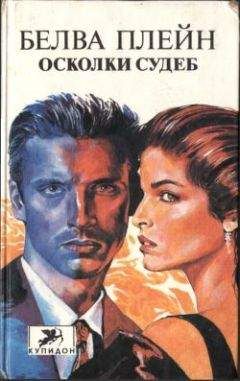Сейчас его окружали люди особой породы, которую отличишь всегда и везде: сухопарые, жилистые, закаленные суровым спортом: одни привыкли в любую погоду удерживать парус яхты, другие — бегать на лыжах по крутым холмам. Дамы, даже некрасивые, с удлиненными, резко и неровно очерченными лицами, тоже были примечательны и несли безошибочные приметы своей породы: строгого покроя юбки и блузки, круглые золотые броши и неумолимое выражение тонких сжатых губ. Эрик узнал бы их где угодно, даже в Патагонии. Он наблюдал за женщинами, собравшимися возле столика с кофейником и чашками, слушал четкий, решительный и неизменно приглушенный говор и чувствовал… будто вернулся домой. Выходил ненадолго, а теперь вернулся… И вдруг он понял, что именно трогает его так безотчетно, отчего так щемит сердце. Все эти женщины были похожи на бабулю.
Крис прибыл с женой и старшими сыновьями. Его братья тоже приехали с женами — молодыми и беременными.
Хью познакомил Эрика с Бетси.
— Говорят, ты отправляешься с Крисом в увлекательное путешествие? — сказала она. — Мы все так рады, что вы будете вместе.
Эрик вспыхнул:
— Я еще не решил окончательно, еду или нет.
В эту минуту сзади подошел Крис.
— И чего ты тянешь? — Его голос выдавал явное недовольство. — На дворе апрель. Если ты намерен ехать, надо до конца месяца повидаться с нью-йоркским руководством. Не могу же я бесконечно держать для тебя место.
— Я понимаю.
— А я, убей Бог, не понимаю, почему ты не хватаешься за эту возможность обеими руками.
— Вероятно, потому, что пять лет — немалый срок. Страшновато связывать себя так надолго без твердой уверенности, что это именно то, что надо.
— Ладно. Думай быстрее, — бросил Крис и отошел.
Хью подвел Эрика к высокому старику, стоявшему у камина.
— Дядя Джед, это Эрик. По-моему, вы незнакомы.
Ладонь крепкая, сухая, точно выделанная из дубленой кожи. Взгляд сначала отсутствующий и сразу — сосредоточенный, пристальный.
— Я знал твою мать совсем крошкой. А тебя никогда не видел. С тех пор как умерла жена, я почти не общаюсь с ее родственниками. Но сегодня решил почтить… Я теперь на пенсии, живу в Прайдз-Кроссинг… — Он говорил достаточно бессвязно. Голос дряхло дребезжал. — Однажды видел твоего отца. Он приходил ко мне в банк, искал работу. Но я ему не помог. Депрессия. Миллионы безработных. Ты похож на мать, — сказал он внезапно. — Хорошая была девочка. И хорошенькая. Рано умерла, слишком рано. А вот мне восемьдесят семь лет.
Кто-то подошел и увел дядю Джеда пить кофе. Все эти люди знают обо мне куда больше, чем я сам… От этой мысли стало неуютно и в то же время захотелось быть с ними, внимать им, не пропуская ни единого слова, ни единой мелочи.
«Помни нас», — сказала напоследок бабуля.
Если сейчас развернуться, отрезать себя от семьи — конец. Возврата уже не будет. Старики умирают или умерли. Крис уедет, а когда вернется, мы окажемся чужими людьми. Пока же между нами есть нечто, искра, которую еще можно раздуть.
Аравия… Отправиться с Крисом, человеком из той, прежней жизни, — в новую, неизведанную… Кто-то подбросил в камин сосновых поленьев; в ноздри ударил сладковатый запах. Запах и вкус, вкус и запах — как у Пруста — дарители воспоминаний. Он почувствовал соленую пыль утесов и гротов штата Мэн, дымок золотых сентябрьских костров в Брюерстоне. Незабвенные места, незабвенные лица! Он — их. Плоть от плоти. Сдержанные манеры. Дедулины птицы. Белая лошадь на пастбище. И столько еще… Столько еще…
Найдя Криса в дальнем углу комнаты, Эрик дотронулся до его плеча и оторвал от беседы:
— Крис, я еду с тобой.
Весенние каникулы длились неделю, и каждый день Эрик собирался с духом, чтобы сообщить деду и Нане о своем отъезде. Открывал рот и — закрывал его снова, чувствуя себя последним трусом. Но он не мог.
— Я хочу купить тебе приличную машину, — заявил дед. — Твой драндулет хорош для мальчишки-студента, а теперь надо обзавестись чем-нибудь попристойнее. Подумай, какая машина тебе по душе, и купим сразу, как получишь диплом.
В другой день дед предложил:
— Отдохни-ка ты месяц-другой, прежде чем впрягаться в наш воз. Отдохни, прокатись в Калифорнию. Устрой себе праздник.
Нана спрашивала:
— Ты хочешь, чтобы обстановкой кабинета занялась я, или подыщешь мебель сам, по своему вкусу? Джерри Малоун недавно сменил интерьер. Сходи, посмотри, что получилось. Может, тебе понравятся его идеи.
Как-то утром дед сказал:
— Ты еще не видел наш последний торговый центр? Давай-ка проедемся, поглядишь своими глазами. Мне все равно надо там кое с кем встретиться.
Эрик послушно исходил необъятную территорию центра, все «проспекты», «улицы» и «переулки». Поднимался с одного уровня на другой, удивлялся размерам и великолепию и честно старался запомнить побольше — ведь от него ждут не только похвал, но и замечаний.
Его сердце переполняла неизъяснимая грусть. Сколько же супружеских пар бесцельно бродит мимо заманчивых витрин волоча за собой ребятишек? Сколько измученных жизнью мужчин в дешевых суконных куртках, сколько усталых женщин с завитыми на бигуди волосами несут свои мечты в эти магазины, заваленные яркой, претенциозной мишурой, которую им в жизни не купить и которая им, в сущности, не нужна? Эрик знал, что у деда подобные мысли понимания не найдут. Он лишь посмотрит на него растерянно и недоуменно. Лучше не заикаться.
Они уселись обратно в машину.
— Ну как? Понравилось? — спросил дед с жадным, ликующим любопытством.
— Да, муравейник что надо.
— Это еще не самый крупный! Погоди, увидишь, какую махину мы строим в Южном Джерси. Пока проект на бумаге, но в сентябре заложим первый камень. Может, я дам тебе поработать на этом объекте. Вместе с Мэттом Малоуном. Войдешь во вкус настоящей стройки. Мэтт смышленый парень, у него есть чему поучиться.
На левую руку Эрика вдруг легла рука Джозефа. Он говорил взволнованно и очень тихо, едва слышно, и Эрик знал, что дед смущен, но сдержаться уже не может.
— Долгие годы я завидовал Малоуну. Напрасно, конечно. Ибо сказано «не ропщи на судьбу»… А я роптал. У него столько сыновей, и все — преемники в деле его жизни. Они подхватят эстафету, приумножат достигнутое. А мои труды рано или поздно уйдут в песок. В никуда. Словно меня вовсе не было на этом свете. А потом появился ты. И у меня прямо камень с души упал. Я помолодел. Да-да! Честное слово! Ты придал мне сил, энергии, продлил годы моей жизни… Тебе, верно, неловко слушать эти признания. Но ты уж прости, Эрик. Прости старика…
— Да ладно, дед. Все нормально.
Господи! Господи! Как же я скажу? Какие найду слова? Где? Когда?
В пятницу вечером бабушка отозвала его в сторону:
— Эрик, я хочу тебя попросить… Ты не сходишь с нами в синагогу? Сегодня годовщина смерти твоего прадеда, и дедушка будет читать кадиш.
— Конечно, пойду.
— Спасибо, я очень рада. Я знаю, это не твоя молитва, но он так счастлив, когда ты рядом.
Он высидел службу, не слыша ни единого слова, погруженный в свой душевный разор. Лишь изредка его ушей достигала печальная музыка, но до сердца не доходила, растворяясь под сводами синагоги. В длинном поминальном списке назвали Макса Фридмана, и это имя — незнакомого, чужого человека — внезапно поразило его неисповедимостью людских путей. Воскресни его прадед из мертвых, им было бы нечего сказать друг другу, и все же… В нем, в Эрике, течет кровь этого неведомого Макса Фридмана… Все вокруг встали. Услышав шорох, он тоже поднялся. И полился кадиш, скорбный и сдержанный, срываясь с губ нескольких сот людей. Бабушка склонила голову, сплела пальцы. Лицо ее было серьезно. Полуприкрытые глаза деда затуманились. Он слегка покачивался и говорил наизусть, хоть и держал в руке раскрытую книгу. Они знают, что я не буду читать по ним молитву. Когда они умрут, это сделает один из сыновей тети Айрис. И, несмотря на это, я им так дорог…
И вот наконец: «Да благословит тебя Господь, и охранит тебя, и пошлет тебе мир»…
«Шабат». Соседи по скамье — родственники, друзья и совсем незнакомые люди — целуются или пожимают друг другу руки.
«Шабат». Джозеф целует Эрика и Анну. Анна целует Эрика и Джозефа.
Толпа медленно несет их к выходу из синагоги. Дед положил руку ему на плечо. Эрик перехватил бабушкин взгляд. «Ее рыжие волосы слишком яркие», — невольно подумал он. Слишком яркое обрамление для такого лица. Он смотрел на бабушку, а она — на руку Джозефа на его плече. В ее задумчивых, умных глазах отразилась такая сложная, такая противоречивая гамма невысказанного, невыразимого. Сила чувств, сокрытых в этом взгляде, была почти вещественна. Казалось, до них можно дотронуться. Но и тогда не поймешь, чего там больше: вопроса? мольбы?
В этот миг, окунувшись в этот взгляд, Эрик понял, что не поедет.