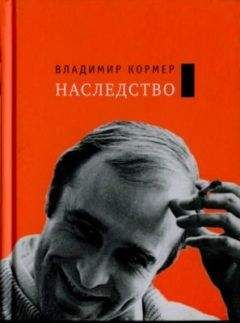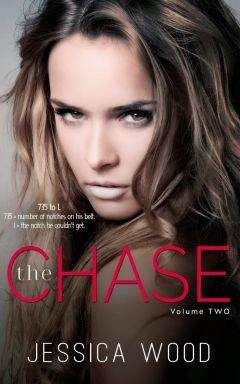XXX
ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
Сжавшись, совсем как тогда, в комочек, дрожа, он возвращался в Москву. Сердце было сдавлено невыносимой тоской и тревогой, до боли. Ему казалось, он вот-вот закричит, упадет, забьется в припадке, распугивая соседей по вагону, и тогда его снимут с поезда на промежуточной станции, и он будет валяться в местной поселковой больнице, когда он должен быть там, в Москве, чтобы действовать, чтобы бороться! Нет, он умрет, он умрет в этой сырой и холодной больнице, сердце его разорвется, он умрет один, без друзей, без… причастия, как умер отчим. Он закрывал глаза, делая вид, что спит, — соседи уже приглядывались к нему — и думал: отчего, отчего такая тоска, что случилось, что случилось такого страшного?
«Это из-за ахинеи с домом, которую затеял мерзавец Лев Владимирович, — думал он. — Когда я привел ребят в этот дом, я хотел, чтобы дом жил по-прежнему, духом, чтобы не прерывалась та ниточка, та традиция. Я надеялся на них. Ладно, у них ничего не вышло. Сорвалось. Они оказались слабы. Не выдержали. Но когда они там (когда мы все вместе там, — поправился он) устраивали пьянки, я смотрел на это сквозь пальцы. Это было нехорошо, но все-таки это было общение, за этим был порыв к духовному, поиск, метания. Несмотря ни на что, мы стремились к высокому. Несмотря на все тяготы жизни. Да, да, мы чувствовали, что монашеский подвиг сливается теперь с миром… Мы были слабы, но мы жили надеждой и верой… Но сейчас то, что выкинул Левка, — нет, это невозможно! Выселять несчастную старуху, покупать дом, чтобы устраивать там бардаки?! Нет, нет!..»
«А что, собственно, произошло? — попытался усмирить он себя, рассеянно глядя на мелькавшие за окном подмосковные склады, вагонные депо, покосившиеся заборы, хибарки железнодорожных служб и огороды в полосе отчуждения. — Что, осквернили храм? Но не такой уж это был храм. Сколько настоящих храмов осквернено. А здесь жили тетка с дядькой, эта тетка — свояченица. Какой уж тут храм… Да, случилось вот что. Я вспомнил о другом — о том, о капитане, о Витьке, вот в чем дело. Но ведь этого я никогда не забывал. И это… и все, что началось позже… как я вел себя… как рассказывал им, — это всегда со мною. Да, я сказал им все, не сказал только про Таню и бабушку. Наглухо, ничего. Я, впрочем, тогда и не знал о них ничего, даже их фамилий. Но это меня не оправдывает, конечно. Я знаю, что грешен. Я всею жизнью моей отмаливаю этот грех… Так что же случилось? Ничего. Так, минутное настроение. Пустые хлопоты…»
Но жуткая тоска не отпускала его. Лишь на перроне, когда он проталкивался, хлюпая по грязи, в вокзальной толпе, блеснул луч надежды.
— Таня! — с нежностью прошептал он. «В ней одной спасение… Женюсь. Дом, новый дом. Дети. Не быть одному, это главное. Дети учат нас смирению и любви. Все несчастья мои оттого, что у меня нет детей. У всех есть, а у меня нет. От этого всегдашнего унижения. Почему ни у одной бабы от меня не было детей? Я сам не хотел, вот почему. А теперь хочу. Пусть родит. Буду отцом семейства. Буду воспитывать их. А потом уйду в монастырь. Я им буду уже не нужен. Уеду по еврейской линии в Израиль, оттуда во Францию, и там в монастырь, католический. Тот же Гри-Гри поможет…»
Он стал прикидывать, через сколько же лет это будет, через пятнадцать, через двадцать, сбился с мысли, сказал себе: что загадывать, что будет тогда, еще рано, и тут вспомнил, что и с самим Гри-Гри еще далеко не все ясно.
— Странная история! — воскликнул он. — И этот псих еще на мою голову! Таня — дочь миллионщика! Надо же сплести такое! Откуда вообще все это могло взяться? Он лежал в клинике с Натальей Михайловной, да. Там, видимо, пошли какие-то слухи. Бывшая графиня, ее история… Три карты, три карты, три карты! Где это я слышал недавно? Ага, у Левки!..Господи, Боже мой, а вдруг, а если… это правда?!!
Он был уже у себя дома и, сидя в пальто у стола, уронив голову на свои бумаги, все повторял: «А если это правда?
А если это правда?» Перед ним всплыло вдруг Танино: «Мне чудится, что я сказочно богата. И я вижу своего отца, которого я никогда не видела даже на фотографии. И я рядом с ним в белом платье…»
«Если бы это было правдой, то как все стало бы просто! — еще не вполне уверенно произнес он, но тут же ободрил себя: — Да, стало бы просто. Мы настолько нищи, что и впрямь готовы тешить себя иллюзией, что деньги не имеют для нас никакого значения. И они действительно не имеют для нас никакого значения, потому что у нас их нет! Ах, даже не понимаем, что есть такая форма жизни. Это не значит, что мы бессребреники, нет, но мы ставим на что угодно, но только не на деньги. А все так просто. И те, кто понимают это, те, разумеется, денег из рук не выпускают!»
«А ведь это может быть правдой! — сказал он еще через минуту. — Может! Тогда все странности их семейства легко объяснились бы. Они все сумасшедшие — это Лев Владимирович сказал правильно. Но почему? Вот вопрос! Та же Наталья Михайловна, например, такая ровная, благовоспитанная дама, столько повидала на своем веку. С чего бы, спрашивается, ей на старости лет спятить и, как заурядной истеричке, пытаться покончить с собой? Если это правда, то тогда все понятно. Она знает о деньгах тоже, она юрист, более того, нитки у нее в руках! Это ясно. Оттого и сошла с ума. Когда стали выпускать, дверца открылась, она и заволновалась. Наконец-то можно выехать! И сразу — бац! С катушек! Всю жизнь крепилась, а теперь не выдержала. Сдали нервы. Крушение в момент успеха. У Фрейда есть об этом статейка. Как леди Макбет. В последний момент все ломается. Кажется, что теперь-то уж все в порядке, ан психика-то и отказывает. Провал! Я уж не говорю о матушке, о Катерине Михайловне. Ей давно место в психушке. А сама Татьяна, прости Господи! А Сергей Леторослев? Здоров как бык, на нем пахать можно, и папаша, судя по фотографиям, был такой же, а что в результате? Людоеда людоед помнил с юношеских лет, так, что ли? Великий талант, нигде проработать больше трех месяцев не может. Как же мне раньше не приходило в голову, что за всем этим что-то есть?!!»
Он оторвал голову от стола, кинул пальто на кровать и стал думать дальше.
«Лев Владимирович, — раскладывал он дальше, словно пасьянс. — Этот, конечно, все время что-то чувствовал, а сейчас явно ситуация сгустилась. Потому и занервничал. Но как точно сумасшедший меня вывел на него. Почему же я не мог сопоставить все факты прежде?! И Таня, Таня какова! Всю жизнь носить это в себе, таить, ни разу никому не обмолвиться ни полсловом. Нет, Льву Владимировичу-то она, безусловно, намекала, но, умница, не сказала всего! Кстати, откуда у него деньги?!..»
«Погоди, — прервал он себя. — Так нельзя. Я говорю об этом уже как о чем-то решенном. А на самом деле? Вдруг ничего нет?! Надо спросить у нее. Теперь-то… — и он мысленно подчеркнул это теперь-то, — теперь-то я вправе. Сказать, что хочу жениться, и спросить. Слушай-ка, а что там такое? — изобразил он. — Нет, так нельзя. Может испугаться. Это слишком глубоко было запрятано. Еще вообразит, что собираюсь жениться из-за денег. Все сорвется. Да, можно себе представить ее реакцию. Нет, с ней надо осторожней, максимально осторожно…»
Он заволновался, чувствуя, что приближается к решающей точке, и вскочил, ощутив при этом неслыханную слабость в ногах и едва ли не во всем теле.
«Надо проверить. — От внезапной слабости он не мог даже выпрямиться в полный рост и ковылял по комнате. — А как проверишь? Спросить нельзя, она уйдет. Она-то ведь бессребреница. — Он язвительно усмехнулся. — Надо подловить ее на чем-нибудь. Надо исподволь. А на чем подловишь? Проще всего, конечно, было бы на… милосердии. Вот-вот! Это уж как пить дать. На благотворительности! Это без осечки. Сказать, что кому-то очень нужны деньги, и немалые. Кому-то бедненькому, несчастненькому. Да, да, кого-то нужно пожалеть. Да, но кому бедненькому и несчастненькому могут понадобиться такие деньги? Ну, положим, не два миллиона, а хотя бы несколько десятков тысяч. Не на кооператив же и не на дачу они ему должны понадобиться. Ерунда какая-то. Нет ли у тебя тысячи долларов несчастному? Ерунда… Нет, не ерунда… — Он замер, пригнувшись как перед прыжком. — Предположим… да, предположим, что кто-то попал в нехорошую историю… скажем, сидит в тюрьме… или ждет суда… Да, да, именно так, ждет суда… И нужны деньги — дать кому-то на лапу, дать взятку, нет, купить с потрохами весь суд. Это, очевидно, должен быть кто-то невинно пострадавший, не уголовник, нет, а какой-нибудь, допустим, диссидент или кто-нибудь из наших, церковных. Да, но кто? Сидит полно и тех и других, на кого-то, я помню, скидывались, давала и она, но не больше, чем все, так — копейки. Основной капитал не трогала! Так как же тогда? — Он надолго задумался. Неясная идея брезжила в его уме. — …А что, если, — задал он вопрос самому себе, — что, если сказать ей, что это я влип в нехорошую историю, что это мне грозит суд, что мне нужны деньги? Это уже лучше, лучше! Но, с другой стороны, она легко может проверить, начнет бегать по знакомым, куковать, что мне нужно помочь, что я в страшной опасности, а все будут лишь таращить глаза и говорить, что первый раз об этом слышат и что, скорей всего, я сам все это выдумал. Не дай бог, еще скажет, что мне требуются деньги. Вот уж тогда начнется! Уж тогда косточки мне перемоют!»