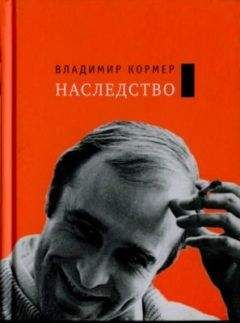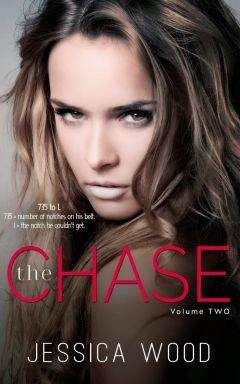Мелик, как в летаргическом сне, — слышал все, но не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, ни приподнять голову.
— Что-нибудь еще было? — запекшимися губами прошелестел он.
Сосед разобрал вопрос, и тотчас же в нем что-то будто подломилось; он замычал, замотал головой, шатаясь, добежал до серванта — бутыль стояла теперь там, среди хрусталя, выпил почти до дна, пролив на себя половину, и затем раскорякой навис над Меликом, норовя оторвать его от пола. Мелик толкал его прочь ватными руками, сосед слюнявым ртом старался достать до его лица. Наконец сосед сам обессилел и упал рядом, ударившись головой о батарею.
— Из ваших приходили-и-и, — завыл сосед. — Из ва-а-а-ших… Эх, эх, пропадай моя головушка, ети ее мать! Страх-то какой!..
— Из каких наших?
— Точно, точно, из ваших, врать не буду… Я ему сразу грю: нету, нету яво, товарищ капитан, клянусь честью, нету. Уехал, грю, в село Покровское, ети его мать…
Мелик рванулся, чтоб схватить его за шиворот и спросить, откуда слесарь знает, куда он поехал, но не дотянулся и лишь застонал:
— Не томи душу, кто был… белоголовый, что ли? Или с золотыми зубами?
— Он, о-он! — заголосил слесарь. — Голова белая, зубищи золотые! А с ним страшный, как зве-р-рь! Бокс, чемпион! С левой! С правой! А ты меня не пугай, я не из пужливых! Я б… этим кулаком! На мне не заржавеет! Ты меня не тронь, я с вашей системой имел дело, знаю! И мокрым полотенцем били, и суставы вынимали! А он грит: мы тебя не трогаем, ты, грит, ему только передай, что если он, грит, еще раз туда нос сунет, мы, грит, ему, ети его мать…. оторвем! Понл?! А я грю: а ты его не тронь, ты своей красной книжкой не грози, у него самого, может, такая книжка есть!!!
Откуда-то в комнате появилась слесарева жена, Клавдия, сверху вниз она смотрела на Мелика, физиономия ее была искажена негодованием.
— Встань с полу! — завизжала она. — Встань! Ковер выпачкали! Полировку поцарапали! Опять напились, собаки, пи…рванцы х…вы! Вставай, б…!
— Ты его не тронь! Не тронь! — надсадно орал в ответ слесарь. — Ты ему не пара! Сучье вымя! Е… твою мать! Это он здесь такой, а там он — орел!!! У него, может, красная книжка есть! Я знаю, я видел, меня не проведешь! Он тебя враз засодит! Пять лет баланду хлебать будешь! У него, может, работа такая! У него, может, на улице Горького кварти-ра-два-сортира, три комнаты! Жена в стеганом халате! Деточки. Тю-тю-тю. Шапка пыжиковая! Он, может, три дня дома сидит, на четвертый в худой костюмчик оделся и сюда, с нами пить-выпивать! Штаб-квартира, не х… собачий! Он, может, две академии кончил — школу КГБ и духовную семинарию! Ничего не сделаешь — договорчик! Договорчик подписал, хана тебе, хочешь — не хочешь, служи! Во как! Договорчик, верно я грю?! Он, может, министр с теневого кабинету, верно?! Сичас его в ссылку, в емиграцию на пятнадцать лет, а через пятнадцать лет вернулся — первый человек для народу, для партии, для государства! Все при ем! «Чайка», дача, и лет еще не так много! Шеесят лет — орел! И бабу еще, и кого хошь! А ты б… — дура, б… — дурой останешься! В грязи валяться будешь! У ног его, верно я грю, товарищ капитан?! Верно?! На колени, сучья морда! На колени!!!
Мелик в это время почему-то уже сидел за столом с хозяйкой в обнимку, запустив руку ей в вырез платья. Теперь она стала выскальзывать из его объятий и по приказу мужа брякнулась-таки возле на колени.
— Ты что? Встань сейчас же! — закричал Мелик. Муж и жена, на коленях, лишь воздевали к небу руки.
— Хватит!! — что было мочи завопил он и трахнул кулаком по столу, угодив в хрустальный фужер.
Кровь брызнула из рассеченной артерии, на скатерть, на слесаря и на его жену.
Мелик увидел Покровское, мостки через ручей. И в ту же секунду ему было дано узреть, что такое Ад, в чем суть адских мучений. Ему нарисовалась жизнь вечная — бесконечная череда рождений, и в каждом из них человеку предлагают прожить ту жизнь, которую он уже прожил однажды. Он помнит все свои грехи, все свои ошибки, все неудачи. Всякий раз он свободен, он волен избежать их, жить другой жизнью. Он знает: в такие-то часы он должен будет действовать иначе, не то все завертится, все повторится снова. И вот этот день, этот час, ближе, ближе, ближе. Человек думает: нет! не хочу! Уж на сей-то раз этого не случится! Я не сделаю этого!.. Но час подходит, настает то неуловимое роковое мгновение… Не хочу-у-у! Не буду-у-у! И… все-таки поступает по-прежнему… И жизнь его вновь проваливается в ту же колею, вновь начинается старое, знакомое наизусть… И так без конца… Сперва человек еще надеется: ладно, в этот раз сорвался опять, в следующий уж ни за что. Но подходит следующий раз, человек родился, растет, воспитывает себя… и вновь провал за провалом! И постепенно надежда испаряется. До человека доходит, что он обречен. Он изведал свои возможности до крайнего предела, он убедился, что у него нет сил перебороть свою натуру, что в последний миг его благие намерения будут преданы. Он уже согласен быть хуже, чем был, если у него не получается быть лучше, но и этого ему не дано. Никогда, никогда ему не вырваться из кольца. Он наконец исполнил завет: познал самого себя, и это знание оборачивается жуткой, безысходной тоской. С нею он кружится в вечности.
Кровь хлестала не переставая. Хозяева с колен глядели и, кажется, находили удовольствие в этом зрелище.
— Хватит, — жалобно попросил он. — Довольно, хватит. Я уже и так отрекаюсь. Отрекаюсь от Бога! — заорал он, подымая окровавленный кулак. — Подписываю ваш договорчик!!! Кровью подписываю! Черную мессу служить буду! Отрекаюсь! Давай бумагу!!!
Они в самом деле сорвались с места и забегали по комнате, ища бумагу. Бумаги не было, пера тоже.
— Крест ставь, крест! — вертелась хозяйка, подсовывая то бумажную салфетку, то обрывок газеты.
— Нельзя, нельзя, — твердил Мелик.
Тут слесарь, который был теперь уже вовсе не слесарь, а белоголовый приятель Льва Владимировича, и даже не белоголовый, а самый настоящий черт, с рогами и хвостом (видно, заслуженный — со шкурой дорогого серебряного химического отлива и с золотыми зубами), подал ему что-то как будто более подходящее.
— Это что, бланк?! — вскричал Мелик, поднося листок к глазам.
— А ты как думал?! — галдел подавший. — Я наряд закрыть должон, етит твою мать, или нет?!! Никакой самодеятельности! Пил?! Чтоб меня рублем за ето наказывали, да?!
У бабы его тоже вдруг обнаружились чудовищно волосатые ноги; вообще похоже, что она вся, от самого подбородка, была покрыта коричневатой шерстью.
Мелик потряс рукою, чтобы кровь стекла с ладони к пальцам, пальцем в несколько приемов коряво поставил подпись и… грохнулся без сознания.
Он опомнился далеко от своего дома, на лестничной площадке перед дверью Таниной квартиры. Открыв ему, Танина мать остолбенела: как смел он появиться на пороге их дома?!
— Ах, это по делу! — запищала Таня, выбегая из кухоньки. — Прости, мама, это по важному делу! Прости!
Та медленно, с шуршанием исчезла — как змея, кольцо за кольцом.
В комнате Таня бросилась к нему на шею. Мелик долго стоял, поначалу вяло обнимая ее, затем собрался с духом и легонько подтолкнул ее к кушетке.
— Что ты делаешь, нельзя! — увернулась она. — Нельзя, ты сошел с ума! Здесь же мама!
— К черту маму! Слушай, мы уже не маленькие! Скажи маме, что мы женимся! Скажи сейчас же! Пойди и скажи, и пусть убирается к… Слышишь, иди, — неуверенно попро сил он.
Зажимая ему рот ладонью, она счастливо смеялась.
— Что ты смеешься? Ты что, не хочешь, чтоб мы поженились?! У тебя что, другие планы?! — Он чувствовал, что имитация выходит слабой.
— Нет, нет, — ничего не замечая, влюбленно ворковала она. — У меня один план — быть с тобою, всегда! Но так нельзя, мы должны вое обдумать. Надо подготовить маму… А ты сам, твое решение твердо?
— Да, да, да! Я шел к тебе всю мою жизнь! Ты же знаешь, — упрекнул он.
— Ах нет, не всегда, — опечалилась она. — Иногда ты ускользал как раз тогда, когда я думала, что мы с тобой уже нераздельны, когда я ждала тебя… Вот и вчера, где ты был вчера? Ты был мне так нужен! Я искала тебя, я заходила к тебе! Неужели ты… после того, что… ты мог быть настолько нечуток… я не говорю — бессердечен, нет, извини меня, — невежлив! Чтобы хотя бы не позвонить мне?..
— Прости меня, прости, прости!.. — Речь давалась ему с трудом. — Вчера с утра я не решался звонить, чтоб не разбудить тебя прежде времени… — («Я не сомкнула глаз», — откликнулась она), — а потом… возникло одно непредвиденное дело… пришел один человек… а потом… я сидел в библиотеке!., прости, надо было экстренно… закончить одну вещь… Посмотреть кое-какие книги, материалы. Так, одна давнишняя моя идейка. Ничего особенного, доморощенное богословие, но все же мне дорого. — Он сам удивился тому, что сказал, но тут же ему стало ясно, что действительно он в один из этих дней что-то такое писал; он даже нащупал какие-то листочки в кармане. — Называется… — продолжал он, — впрочем, не важно, как называется… Все откладывал, а теперь приспичило доделать. Есть канал, по которому можно переправить… туда. Он завтра уже закроется, а я хочу, чтобы экземпляр был там, на всякий пожарный случай, мало ли что здесь может произойти…