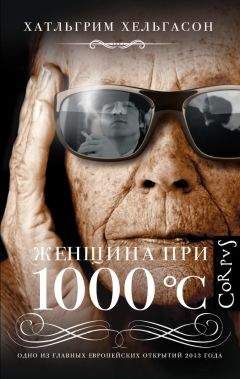«Благодарю всех, кто собрался здесь в этот вечер. Эта еда пришла к нам издалека, и много рук потрудилось, чтоб она вышла хорошо. Og så får vi[289] скир на десерт».
Старуха сопровождает последнюю фразу легкой улыбкой, ответом ей служит добродушный смех гостей. Она бодро прибавляет:
«И непременно дайте знать девушкам, если захотите еще. Там framme[290] есть добавка!»
«Нет, уже закончилась», – подает голос Элин, стоящая посреди комнаты с серебряным подносом у бедра.
Кто-то издает короткий смешок, а хуторянин напротив меня разражается скоротечным приступом кашля, и лицо у него краснеет еще больше, становится почти фиолетовым, белки глаз пучатся, и он просовывает два пальца за ворот рубашки.
«Tak for det, Ella»[291],– одними глазами отвечает бабушка и еще некоторое время продолжает нахваливать банкет, а потом резко замолкает, наклоняется к дедушке и шепчет ему что-то на ухо, а потом садится. Президент вскакивает с места так быстро, что гости не успевают похлопать словам президентской супруги. Сегодня он за конферансье, но совершенно не подготовился: «Честь имею, честь имею… представить эту вел… великолепную певицу и нашу замечательную… Лоне Маргрете Банг, которая исполнит для нас две песни».
Двери открываются, и Лоне торжественно входит в столовую. Платье у нее, как и раньше, черное, а в волосах уже заметен первый снег. Пианист Ройтер входит за ней торопливым шагом и откидывает фалды фрака, садясь за рояль, стоящий в дальнем конце столовой. Этот рояль совсем недавно перевезли в президентскую резиденцию, и вокруг него разыгралась такая суета, что бабушке стало не по себе.
«Но нам в Бессастадире нужен рояль», – услышала я дедушкину реплику.
«Nåh? Skal hér være concert hver aften?»[292]
В честь окончания войны первая песня на идише: «Du sollst nit gein.» Публика слушает с почтительной улыбкой. Я вижу, что бабушка держит пустой бокал за ножку и, слушая, не сводит с него глаз, а дедушка смотрит на пение. Последняя песня – исландская «Детки играют», совсем как в тот памятный вечер в Скагене много бед тому назад. Певица низко кланяется под бурные аплодисменты и улыбаясь удаляется. Я вижу, как раскрасневшийся от аплодисментов дедушка смотрит на бабушку, а у той, напротив, в лице ни кровинки.
Дама в боевой раскраске, сидящая за главой министерства, спрашивает соседей:
«А на каком это было языке… первая песня?»
«Это идиш, еврейский язык», – отвечает ей г-н Кнудсен.
Ее муж, с мешками под глазами и вторым подбородком, произносит:
«Да? А почему она тогда сказала, что это в честь окончания войны?»
Глава министерства пытается объяснить ему, но предприниматель, сидящий рядом со мной, вынимает инкрустированный серебром портсигар и предлагает соседям белоснежные «Лаки Страйк». Я провожаю их жадными глазами, а берет их только его жена. Он зажигает сигарету сперва ей, потом себе, а толстяк напротив меня поднимает бокал с красным вином и начинает новую дискуссию:
«Интересно, где старик раздобыл все это вино?»
«Конечно же, сделал запасы во времена автономии».
«Да, разумеется, это урожай тридцать девятого-сорокового, потому что мне сказали, что это французское вино».
«А на время войны производство вина остановилось?»
«До этого не дошло, но экспорт из Европы был практически равен нулю».
«Неужели континент действительно так сильно пострадал во время войны?»
Их слова сливаются с блестящим шелком и шифоном, пламенем свечей и длинными перчатками, пением и звоном посуды, табачным дымом и расторопной прислугой, картинами в золоченых рамах, шампанским молоком в желудке. Меня сильно мутит. Вдруг предприниматель поворачивается ко мне и спрашивает дымящимся голосом:
«А вы, милая дама, где были во время войны?»
«Я? Я… мы… в Дании и в Германии».
«Да, правда?» – спрашивает его жена.
«Да», – говорю я, уставившись на красную полосу, оставшуюся от ее губ на желтом фильтре. Каким-то непостижимым образом он вызывает у меня отвращение.
«И как… как там война?»
И тут я извергаюсь, как гейзер. Из меня выходит все в один присест – одна нерперывная струя рвоты. Она обрушивается на стол, опрокидывает пустые стаканы и почти достигает тарелки кинозвезды. Одна крошечная капля подступает к ее почти пустой тарелке. Тридцать голов замолкают и поворачиваются ко мне. Но последнее, что я вижу, – светло-коричневая блевотина, окружившая бокал для шампанского, который вздымается из нее на своей хрустальной ножке, словно бесстрашная статуя. С его дна без конца поднимаются пузырьки, словно воздушные шарики на уличном празднике. Я смотрю на этот праздник словно птица, парящая в небе. С высоты он кажется таким ничтожным.
Похоже, до четырнадцатого я не дотяну. Дурацкое положение. Альвы клянчат все новые бутылки. Клянчат бутылки и скачут по скалам, прыгают через пропасти в травяных башмаках. Мужики в старину это называли «ярла возить». Ах, что желает себе наша страна сейчас, когда пришла такая беда, а мне дай лекарства, слышишь, Лова, я их с собой туда возьму. Где же мое яйцо, яйцо Фаберже? Он был изображен на портрете в кухне на Амруме. А ее звали фрау Баум, эту жучиху… Это мой последний день на земле?
«Ты вот это просила?»
«Да, давай ее сюда! Ты знаешь, что это такое? Это лимонка. А ты подашь объявление на радио. Нет, позвони все-таки Магги».
«Он здесь. Он с тобой».
«Да? А эта, маленькая?»
«И Сана тоже здесь, и…»
«Давай отберем у нее эту… гранату?»
«Ах, ангел вас побери… Бабушка четырнадцать сезонов на веслах просидела…»
«А она не взорвется?»
«Мама?»
«Или семнадцать? По-моему, все-таки семнадцать».
«Она что-то… С ней такое бывает. Но она обычно всегда приходит в себя».
«Но у меня было тринадцать жизней. Тринадцать, а биография одна».
Боб непременно хотел посмотреть его могилу, так что мы поехали в Санта-Кроче, где он лежит вместе с Галилеем и Макиавелли, это такие тумбы, а потом захотел к нему домой, ах, эта ласковость… Где ты, Бобби? Всегда такой радостный… Радостный-радостный, хороший-хороший… Темнота, темнота, теперь ты обрушиваешься, жерло все ближе и ближе или это кто-то на лодке гребет? Я слышу плеск весел. А солнце катилось за нами по пятам на улицу, словно на картине Ди Кирико. Да, несчастный мир, ты был мне… это и есть жерло? Какое ржавое, прямо как … как польский док. Мы выбежали на Виа деи Пепи, словно дважды заблудившиеся туристы, ну и вид у нас был, свернули за угол, но все равно не успели, там закрывалось ровно в пять, мы уперлись в запертую дверь, это был дом номер 70, по-моему… Это Доура? Милая Доура? Здравствуй, здравствуй, гостиничная ты моя!
«Она говорит, тыща четыреста лир за ночь».
«Что?»
«Тыща четыреста лир, с бельем и умывальником».
«Мама…»
«О, он подарил мне кольцо недавно вечером, на верхнем этаже, купил его на Понте-Веккио, на Старом Мосту, там, где Да Винчи птиц покупал, ай, помогите мне встать, я хочу писать, мне нужно пописать, хочу завершить свою жизнь мочеиспусканием, мне просто необходимо ПОПИСАТЬ».
«Вверх, вверх, душа моя, хочу в сортир».
«Давай, я тебе помогу».
«Виа, Виа Долороза… Где тут свет, а где заноза? Когда там закрывается?»
«Что? Что ты сказала? Ну, давай, вот так…»
«Закрывается когда? Нам нужно успеть до пяти. До пяти часов».
«Сейчас полвосьмого».
«Когда туалет закрывается?»
«Туалет? Хе-хе. Он всегда открыт».
«Он живет на Виа Гибеллина, дом 70».
«А? Кто?»
«Там звонок подписан ‘Буонарроти’. Я хочу писать!»
«Да, я тебе помогу».
«А это очередь?»
«Нет-нет… им не нужно… это твои близкие».
«Прямо все? Пришли посмотреть, как я писаю? Я же не Ава Гарднер».
«Магги здесь, и Сана, и Доура, а еще твой сын Халли и Тоурдис Альва. И их дочь, Гвюдрун Марсибиль, она тоже приехала…»
«Привет, ба!»
«Здравствуй, мама».
«Да, у нее много поклонников».
«А? У кого?»
«У Смерти. Она любит большие компании. Всегда все билеты бывают проданы, когда она… нет, пусть будет открыто».
«А может, я закрою?»
«Нет, пусть будет открыто. Пусть люди смотрят. Зря они, что ли, из такой дали притащились? Ты у них номерки соберешь?»
«А?»
«Собери у них номерки… у-у, как хорошо… Да, собери номерки и пригласи их на конфирма… на кремацию».
«Как самочувствие, мама?»
«Я писаю».
«Может, дадим ей спокойно сходить в туалет?»
«Ты сказала: Гвюдрун Марсибиль?»
«Да, она здесь».
«Какой штиль. А ты разве не стала учиться плаванию в… как его? Брисбейн?»