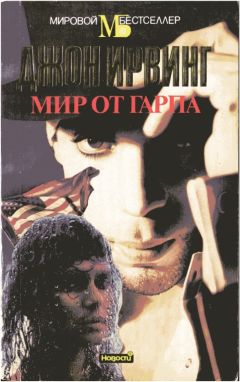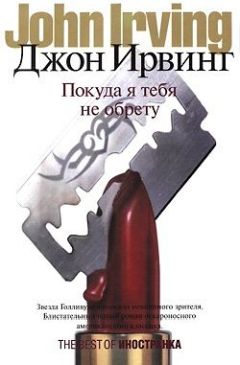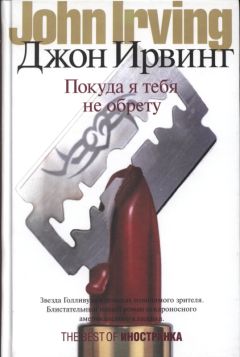— Нам и без того грех жаловаться на недостаток взносов, — попытался было возразить Гарп.
Роберта заметила, что бедняжка миссис Тракенмиллер может оказаться самой обычной шлюхой. Все удивленно воззрились на Роберту, обладавшую несомненным преимуществом: она могла судить не только как женщина, но и как бывший нападающий «Орлов Филадельфии».
— Вдруг она не первый раз «компрометирует себя» и вообще давно этим занимается, — сказала Роберта. — Только подумайте, как мы будем выглядеть? Окажем ей помощь. А это заядлая шлюха, и мы, как последние дураки, попадемся на ее удочку.
— Стало быть, надо потребовать у нее характеристику, — предложила Марши Фокс.
— Лучше встретиться с ней лично и поговорить, — возразил Гарп. — Сразу станет ясно, приличная это женщина или нет. И действительно ли она старается прокормить семью честным трудом.
Члены Попечительского совета удивленно посмотрели на него.
— Ну, знаете ли, — произнесла Роберта. — Я, во всяком случае, не буду выяснять, шлюха она или нет.
— А я тем более, — сказал Гарп.
— А где этот Норт-Маунтин? — спросила Марши Фокс.
— Я тоже не могу. Я и без того почти не бываю в Нью-Йорке, — открестился Джон Вулф.
— А я бы поехал, — вырвалось у Гарпа, — но ведь она может узнать меня.
— Не думаю, — заявила Хильма Блох, врач-психиатр, которую Гарп на дух не переносил. — Те, кто читал автобиографию вашей матушки, то есть люди, увлекающиеся биографической литературой, как правило, не любят и не знают беллетристики. Даже если бы она и взялась читать «Мир от Бензенхейвера», то только по одной причине — зная, чей вы сын. А это недостаточная мотивировка, чтобы дочитать ваш роман до конца. Не забывайте, она ведь только парикмахерша. Скорее всего, она ничего не поняла бы и бросила книгу на половине, а вашу фотографию на обложке, конечно, не запомнила. Ваше лицо может показаться ей смутно знакомым: одно время вас часто показывали по телевизору после гибели Дженни. Но в те дни, разумеется, могло запомниться только одно лицо — лицо вашей матери. Женщины, подобные миссис Тракенмиллер, много времени проводят у телевизора, мир литературы им чужд. Очень сомневаюсь, что ваш образ запечатлелся в ее мозгу и она до сих пор вас помнит.
Джон Вулф стал смотреть в сторону.
— Благодарю вас, Хильма, — только и сказал Гарп.
Так и было решено, что на встречу с миссис Тракенмиллер отправится Гарп и на месте решит, не шлюха ли она.
— Узнаем хотя бы ее имя, — бросила Марши Фокс.
— Спорю, ее зовут Чарли, — добавила Роберта.
Затем перешли к «разному»: кто сейчас живет в приюте Дженни Филдз, у кого истекает срок пребывания, кто только что въехал и все ли идет гладко?
Наверху под крышей жили сейчас две художницы — одна в комнате, выходящей на юг, другая в комнате напротив. Та, которой выпала южная сторона, завидовала своей соседке, считая, что освещенность у той гораздо лучше. Две недели они дулись друг на друга и демонстративно не разговаривали за общим столом. Даже обвиняли одна другую в краже корреспонденции. А потом вдруг взяли и вступили в любовную связь. Теперь живописью занималась только одна, та, что жила на северной стороне, ее приятельница позировала ей, наслаждаясь северной приглушенной освещенностью. Иногда новоявленная натурщица разгуливала нагишом по лестнице, чем приводила в негодование по крайней мере одну из писательниц, драматурга из Кливленда, известную яростным неприятием лесбиянства. К тому же ей не давал спать шум волн. Но, по-видимому, все-таки спать ей мешали жившие над ней любовники. Все считали, что она привередничает. Тогда одна из писательниц предложила всем по очереди читать вслух пьесы кливлендской сочинительницы. Так и поступили. И вскоре на верхних этажах дома в бухте Догз-хед, ко всеобщему удовольствию, воцарились мир и согласие. Противница лесбийской любви перестала нервничать и замечать шум прибоя.
Вторая писательница, сыгравшая роль миротворца, писала неплохие рассказы, и Гарп год назад горячо поддержал ее кандидатуру. У нее на днях истекал срок пребывания, и она уже сидела на чемоданах. Кого же поселить в ее комнату?
Может, ту женщину, у которой муж недавно покончил с собой, а свекровь отсудила детей?
— Я против, — сказал Гарп.
— Может, двух джеймсианок, которые на днях заходили сюда?
— Позвольте, позвольте, — опять запротестовал Гарп. — Что? Джеймсианки? Им сюда вход заказан.
— А Дженни всегда их принимала, — возразила Роберта.
— Так то Дженни, — отрезал Гарп.
Остальные члены Попечительского совета в общем были согласны с ним. Джеймсианок и раньше не любили. А теперь их экстремизм выглядел, по меньшей мере, жалким и нелепым.
— Но для нас это уже фактически традиция, — настаивала на своем Роберта.
Она рассказала о джеймсианках, которые когда-то долго гостили в доме Дженни; потом уехали в Калифорнию, хлебнули горя и снова вернулись в бухту Догз-хед.
— Своего рода сентиментальное путешествие в прошлое, — заметила Роберта.
— О Господи, Роберта! — воскликнул Гарп. — Гоните их вон.
— Ваша матушка всегда их жалела.
Марши Фокс, чье немногословие восхищало Гарпа, проронила:
— Эти хоть трещать не будут.
Засмеялся почему-то один Гарп.
— Я все же думаю, Роберта, нам не стоит их принимать, — поддержала Гарпа Джоан Эйкс.
— Они в обиде на общество, — вмешалась Хильма Блох. — Такое состояние заразительно. Хотя в каком-то смысле они олицетворяют собой самый дух нашего заведения.
Джон Вулф округлил глаза.
— Есть еще кандидатура, — продолжала Джоан Эйкс. — Она врач. Исследует влияние абортов на рост злокачественных опухолей. Что будем делать с ней?
— Поселим ее на третьем этаже, — предложил Гарп. — Я видел ее, страшилище еще то, отпугнет любого, кто пойдет наверх.
Роберта недовольно нахмурилась.
Первый этаж приюта был самым просторным. Здесь находились две кухни, четыре туалетные комнаты; в маленьких уютных спальнях жило человек двенадцать; были еще «конференц-залы», как их называла Роберта (во времена Дженни Филдз это были просто гостиные и комнаты отдыха). И в довершение всего — огромная столовая, куда все сходились к обеду. Сюда же приносили почту, и в любое время дня и ночи здесь собирались все, кто испытывал дефицит общения.
Этот самый населенный этаж не подходил людям искусства. Но тех, кто надумал свести счеты с жизнью, лучше всего было селить именно здесь. Как сказал членам Попечительского совета Гарп: «Не имея возможности выброситься из окна, им останется только морская пучина. А решиться на такую смерть гораздо труднее».
Роберта управляла пансионатом строго, но с материнской заботливостью. Она была способна отговорить человека от любого намерения, а уж если ей это не удавалось, приходилось пускать в ход грубую силу. У нее были прекрасные отношения с полицией, чего никогда не было при Дженни. Иной раз полиция отлавливала зареванных кандидаток в самоубийцы в отдаленной части пляжа, на краю дощатого пирса, и с неизменной деликатностью возвращала их под крыло Роберты. Вся местная полиция состояла из заядлых болельщиков, которые не могли забыть неукротимые атаки правого крайнего Роберта Малдуна и его точные сильные пасы.
— Вношу предложение: впредь отказывать в помощи всем без исключения джеймсианкам и ни одну не пускать даже на порог, — сказал Гарп.
— Поддерживаю! — одобрила его идею Марши Фокс.
— Поставим вопрос на обсуждение, — обратилась ко всем Роберта. — Что касается меня, я не вижу необходимости вводить это правило. Конечно, мы не должны оказывать поддержку тому, что нам представляется глупейшей формой политического протеста. Но согласитесь, вполне может быть, что эти безъязыкие женщины действительно нуждаются в помощи. И думаю, очень скоро обратятся к нам за помощью, которая им необходима как никому.
— Они ненормальные, — не сдавался Гарп.
— Ну и что из этого? — спросила Хильма Блох.
Марши Фокс продолжала доказывать:
— Реальную пользу обществу могут принести только те женщины, у кого есть язык. В самом деле, они борцы, и язык — их главное оружие. И я отнюдь не приветствую идею — вознаграждать глупость и самолично наложенный на себя обет молчания.
— Молчание тоже добродетель, — заметила Роберта.
— О Господи! — не выдержал Гарп.
И вдруг он понял, почему джеймсианки приводили его в большую ярость, чем все Кенни Тракенмиллеры этого мира, вместе взятые. Он видел, интерес общества к джеймсианкам падает, но не так быстро, как бы ему хотелось. А ему хотелось, чтобы они вообще исчезли с лица земли. Этого мало! Они должны стать всеобщим посмешищем. Хелен как-то сказала ему, что эти несчастные просто не заслуживают такой лютой ненависти.
— Они не совершили никакого преступления. Их можно обвинять в недомыслии, в помутнении разума, наконец. Да оставь ты их в покое. Выброси из головы, и все, — говорила ему Хелен.