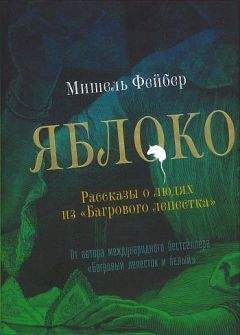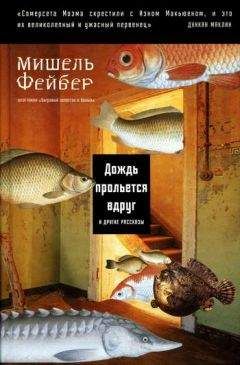— Что же, мой аппетит покинул меня. Навсегда.
Несколько секунд миссис Тремейн оценивающе вглядывается в мистера Бодли, а после подмигивает ему, поведя подбородком в сторону Лили, и предлагает:
— Не желаете ли вы провести несколько минут с Лили, сэр, бесплатно? Если ей не удастся разжечь вашу… вашу свечу, мы уверимся в том, что положение ваше и вправду серьезно. Если же, — а я не сомневаюсь, так и случится, — вы оживете, цена ее услуг все равно останется разумной. В конце концов, Лили еще не опытна.
— Еба-еба уеба, — пищит Лили.
— Нет, нет, право же, я не могу, — стонет мистер Бодли. — Да и какой в этом смысл? Пусть даже тело мое поведет себя в согласии с его животным устройством, что же с того? Я обычный, здоровый мужчина, а у этой девочки имеются губы, язык и все прочее. Воспрепятствовать нашим плотским утехам не способно ничто. Кроме лишь одного, мадам, — их бессмысленности. Я же испытывал их уже тысячи раз.
— Как и мы, сэр, — напоминает ему миссис Тремейн, однако мистер Бодли свои ламентации еще не закончил.
— Тысячи соитий. Тысячи повторений все тех же движений. Мы гладим шеи и щеки. Оголяем груди и зады. Производим манипуляции, от которых влагалища становятся сочными, а члены твердеют. И вечно одна и та же последовательность — разочарований, взаимных услуг, ожиданий, уступок, а следом, мм…
— Высвобождение? Блаженство?
— Облегчение.
Миссис Тремейн фыркает:
— Вы идеалист, сэр, и идеализм делает вас несчастным. Мы же, в большинстве своем, умеем отыскивать радость в рутинных утехах. В пище, в сне…
Мистер Бодли сердито всхрапывает:
— Я в последнее время почти и не сплю.
— О, так в этом и кроется корень ваших невзгод, сэр, — объявляет, мгновенно воспрянув духом, миссис Тремейн. — Сон необходим для душевного здравия. Я слежу за тем, чтобы мои девушки получали каждую ночь свою порцию сна. Иначе они бы с ума посходили, не сомневаюсь. Что, по всем вероятиям, и случилось с вами, сэр, простите меня за дерзость.
— О нет, я всего лишь заглянул, и слишком глубоко, в бездну человеческой тщеты…
— Позвольте спросить вас, сэр, как вы провели эту ночь?
Мистер Бодли дергается — так, точно его щелкнули по носу.
— Эту ночь? Мм… я провел ее с Эшвеллом. Мы отправились в Уайтчепел, на крысиные бои, и там нас едва не убили. Затем отыскали место, в котором можно было выпить, — и выпили. Затем взошло солнце, я остановил кеб и поехал домой. Вспомнить, где у меня спальня, я не смог и потому продремал — час, быть может, — в моем вестибюле. А затем на лицо мое осыпался из прорези в парадной двери целый град писем.
— А ночь предыдущую?
Мистер Бодли насупливается, силясь проникнуть умственным взором в глубины истории столь давней.
— Я снова был с Эшвеллом. Мы отправились на Бромптон-роуд, к миссис Фоско. Эшвелл уверил меня, что там появятся двое наших давних оксфордских донов и их посекут. Они не пришли, а пока мы дожидались их, высекли нас — было бы неучтивостью отказывать в этом хозяйке дома. Затем со мной приключилась небольшая неприятность, потребовавшая незамедлительных услуг врача. Эшвелл сказал, что в Боуфорт-Гарденз живет его добрый друг, доктор. Однако мы были настолько пьяны, что оказались, в конечном счете, в Гайд-Парке, и я, пытаясь омыться, свалился в Серпантин. А после… мм… дальнейшее я помню смутно. Какие-то лошади, по-моему, и полисмен…
— Надеюсь, сэр, вы хорошо поспали на следующий день?
— Почти не сомкнул глаз. Мне нужно было повидаться с отцом, объяснить ему некоторые осложнения, возникшие после выхода в свет одного моего рискованного трактата. К тому же, люди, живущие надо мной, купили собаку — приобретение чрезвычайно спорное, а до того, чтобы перерезать ей горло, у меня руки пока не дошли.
— Понимаю, — говорит миссис Тремейн, уже заметившая, что глаза ее гостя налиты кровью, а руки дрожат.
— Но все это мелочи, — стонет мистер Бодли. — Пена и сор на бескрайней поверхности совокупного океана бесплодности наших усилий. Все человеческие радости для меня умерли.
— Всего лишь временно затерялись, сэр, уверяю вас, — самым успокоительным ее, материнским тоном произносит миссис Тремейн. — Сейчас для вас самое главное — сон, поверьте. Вы устали, сэр, я это вижу теперь, страшно устали. Может быть, приляжете на одну из наших свободных кроватей? Мы с вас почти ничего не возьмем, сэр. Ночной сон по цене бокала доброго вина.
Некоторое время мистер Бодли туповато таращится на нее. Нижняя губа его припухла, что придает ему сходство с шестилетним мальчиком.
— У меня нет с собой ночной рубашки, — наконец, вяло возражает он.
— Спите нагишом, сэр. Постели у нас теплые, а на дворе лето.
— Я не могу спать без ночной рубашки, — говорит Бодли и прикрывает дрожащими ладонями глаза. — Это противоестественно.
— Очень хорошо, сэр, — и миссис Тремейн начинает одними движениями пальцев и запястий отдавать Девушке Номер Один некие сложные распоряжения. Девушка Номер Один вскакивает с пола и торопливо покидает гостиную, а несколько мгновений спустя возвращается с белой ночной сорочкой в руках.
— О, но право же…! — начинает протестовать мистер Бодли, когда ему показывают, развернув, женский ночной наряд.
— Заснув, сэр, вы никакой разницы не почувствуете. Роскошная мягкая подушка, сэр, затемненная комната, дом, наполненный томными женщинами, и ни единой собаки.
Мистер Бодли и сам чем-то напоминает сейчас собачку, с надеждой взирающую на хозяйку. Не позволяя стыду одолеть его, он тянется рукою к ночной сорочке, прижимает ее к груди.
— Отведи мистера Бодли к постели, милочка, — говорит миссис Тремейн Девушке Номер Один.
Мистер Бодли плетется к лестнице, ведомый девушкой, имени которой он так и не вспомнил, девушкой, в ночную сорочку которой он вот-вот облачится.
— Премного обязан, — бормочет он. — Но я всегда сплю один, понимаете? Кровать только для этого и предназначается, так?
— Так, сэр, — подтверждает Девушка Номер Один.
— Еба-еба добрый сон, сэр, — говорит Лили.
— Доброго вам утра, — сэр, — говорит миссис Тремейн.
— Покойной ночи, леди, — отвечает мистер Бодли. — Покойной ночи, дорогие леди.[1]
В тот утренним час, который люди порядочные проводят уже на ногах, предаваясь полезным занятиям, Конфетку пробуждает от крепкого сна, вкушаемого ею в борделе миссис Кастауэй, некий назойливый голос. Звучит он, благодарение Богу, не в ее комнате. Голос доносится снизу, от конюшен, в которые обыкновенно заглядывают только лошади, пьянчуги да воры. И голос этот поет, исполняя под ее окном серенаду.
«Пошел к черту», — думает Конфетка и накрывает голову подушкой.
Голос поет. Он не принадлежит мужчине, который минувшей ночью делил с ней постель. Мужчина этот лежит, погруженный в пьяную дрему, за несколько миль отсюда, в респектабельном, благоухающем семейном доме. Нет, это голос женщины, густой и добродетельный.
Темно и безрадостно утро,
покинутое Тобой…
Конфетка стонет. Утро отнюдь не настолько темно, насколько ей хотелось бы: солнечные лучи проливаются сквозь оконные стекла, выволакивая ее из сладкого забытья. От подушки на голове проку нет никакого, да и дополнительные свивальники, образуемые пушистыми волосами Конфетки, тоже ничем ей не помогают. И что еще хуже, наволочка жутко смердит мужским маслом для волос, даром, что последний клиент Конфетки ушел отсюда шестнадцать часов назад, — и если она поплотнее прижмет подушку к лицу, то попросту задохнется. А пение, между тем, так и лезет ей в ухо, лишь отчасти заглушаемое хлопковой тканью и перьями.
О светлый дом, блаженный дом,
где был Христос утешен!
И гость возлюбленный его
был счастлив и безгрешен.
Конфетка отбрасывает подушку, помаргивает в золотистом свете. Евангелистка! Женщина-евангелистка! Здесь, в Сохо, на Силвер-стрит! Глупее она всех прочих или, напротив, умнее? Петь об утешенном безгрешной любовью Христе прямо перед публичным домом — это же сарказм в чистом виде, верно? Потому что наивности такой на свете просто-напросто не существует.
Нетвердо ступая (вчера она перебрала вина), Конфетка подбирается к окну и заглядывает вниз, в проулок, благо окно ее, расположенное в верхнем этаже, обзор дает превосходный. Мучительницей Конфетки оказывается дородная, накрытая черной шляпкой матрона, рядом с которой переминается с ноги на ногу жалостного вида девочка с набитой брошюрами корзинкой в руках: два темных пятна на залитых ярким светом камнях мостовой.
Взгляни в Небес святой покров,
покинь же праздности приют,
трудись и будешь ты здоров,
ведь счастье нам дает лишь труд!
Конфетку пробирает дрожь. Уже весна, однако настоящего тепла еще нет. На самом-то деле, сколь ни ярок солнечный свет, воздух остается по-зимнему колким. Конфетка же уснула вчера, не раздевшись, и теперь покрывший ее за ночь пот остывает, она ощущает себя только что вылезшей из ванны и завернувшейся в неприятно влажное полотенце. Конфетка обнимает себя руками, с силой растирает ладонями тонкие предплечья.