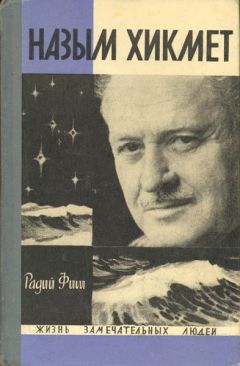Лейтенант слушал и в то же время не переставал думать о младшей дочери председателя муниципалитета. Да и с какой стати из-за какого-то Плешивого Мыстыка открывать дебаты о политике?
И он спросил:
— Значит, по-вашему, я недооцениваю своего султанского положения?
Вместо ответа «ревизор» заметил:
— Вижу, беседа о политике наводит на вас скуку?
— Нет, что вы! Только…
Лейтенант глянул на часы. Было одиннадцать. Маменька, должно быть, заждалась его и не ужинает.
— Я, пожалуй, пойду. — Он встал, пожал арестованному руку и, дав часовым очередные указания, поспешил домой.
«Ревизор» ругал себя в душе последними словами. В карманах пусто, а он, видите ли, пустился в рассуждения. Его накормили, угостили сигаретами… Но как теперь без сигарет скоротать ночь?
«Ревизор» лег, зевнул и потянулся, но, услышав, как под тяжестью его почтенной особы заскрипела видавшая виды раскладушка, решил не рисковать и поменьше двигаться.
В голову лезли мысли о событиях последних дней.
«Ну и влип я! Хуже не придумаешь». — Он криво усмехнулся, вспомнив оставшихся в Стамбуле дружков. Длинный — тот просто оказался сволочью. Даже не поинтересовался, что с ним, когда увидел его с исцарапанной физиономией вскоре после «ревизии» в одном из вилайетских центров, только спросил: «Деньжат привез?» А узнав, что всю выручку отобрала жена, набросился на него: «С тобой водиться, что в крапиву садиться! Видал я дураков, но таких, как ты, не встречал!»
«Ревизор» в сердцах отшвырнул щелчком последний окурок. Да, дружки не могли ему простить, что он позволил «паскуде жене» прибрать к рукам драгоценности и деньги. Даже Идрис напустился на него. А Длинный, побагровев от злости, орал: «Чем мы теперь уплатим домовладельцу, бакалейщику, зеленщику, мяснику? Как рассчитается за комнату Идрис? Что будем делать с чайханщиком?»
Но нет худа без добра: теперь он, во всяком случае, избавился от забот. А то ведь прежде вставал чуть свет, бежал в кофейню и там часами изучал газеты, прочитывая уйму всякой ерунды. Выищет статейку о беззаконии или несчастном случае на фабрике — и чуть не прыгает от радости, хватает такси и вместе с дружками мчится туда под видом инспекционной комиссии. Роли заранее распределены. Один изображает сборщика налогов, другой — ответственного чиновника, бея-эфенди, третий сопровождает «высокое начальство» в мастерскую или в цех, забегая почтительно вперед и то и дело повторяя: «Пожалуйста, сюда, бей-эфенди, прошу». В конечном счете «бей-эфенди», даже не удостоив хозяина взглядом, приказывал «сборщику налогов»: «Оформляй на пятьсот!» — и, поскрипывая желтыми туфлями, направлялся к выходу. «Сборщик» возьмет сколько удастся — триста или двести лир, выпишет квитанцию о приеме подписной платы на газету, на квитанции настрочит что-то вроде: «Получена стоимость подписки на такой-то срок» или «Получен рекламный сбор». Хозяин же, ничего не подозревая, и не подумает прочесть бумажку, которую ему всучили, да еще радуется, что дешево отделался…
Поглощенный мыслями о недалеком прошлом, он стал рассуждать вслух:
— Дела вроде бы шли неплохо, но ведь добычу приходилось делить на четверых, а то и на пятерых. Не надо было уезжать в Стамбул, тогда бы я не влип! Ведь все из-за дружков, этих бродяг! Но что сейчас об этом говорить? Надо подумать, как выбраться отсюда! — Он подмигнул кому-то невидимому: — Что можно придумать в этой ситуации? — Пожал плечами: — Подожду до завтра. Если прокурор вынесет решение об аресте… Какое уж тут «если»! Непременно вынесет! Иначе зачем бы меня повезли сюда, на место преступления? А какого, собственно, преступления?
И он стал вспоминать всех, кого подверг в этом городе «ревизии». Кабатчика, затем хозяина гостиницы, такого длинного, похожего на раскрытые клещи, его жену и любовницу, которую этот наглец держал в своем доме. У его жены он выманил кругленькую сумму, серьги и несколько золотых браслетов, которые будто бы надо было подарить любовнице в качестве отступного. Любовница же, Сэма, на которой «ревизор» обещал жениться, сама отдала ему все драгоценности. Неужели это она донесла на него? Нет, такого быть не может. Ведь она в Стамбуле, а он здесь. Кто же все-таки донес?
Когда «ревизор» лежал, голова у него работала плохо. Вот если бы он мог сейчас хотя бы подвигаться: когда ходишь, легче думается. Он наверняка определил бы, на чем именно попался.
Под потолком едва мерцала тусклая пыльная лампочка. Неужели ее на ночь не погасят? Должно быть, нет. Для часовых он только арестованный. И то, что ефрейтор, сержант и лейтенант отнеслись к нему по-человечески и даже с уважением, ровно ничего не значит. Часовым ни до чего нет дела. Даже прокурор не может приказать им освободить арестованного. У часовых свое начальство, и ничего им не растолкуешь. А как ему все-таки хотелось походить, подвигаться! Что, если завтра прокурор за недостаточностью улик его освободит? Тогда он прежде всего телеграфирует дорогой маменьке: «Я невиновен. Приезжай».
У «ревизора» едва не навернулись слезы на глаза, когда он вспомнил, как много лет назад служил писарем в уездном загсе. Должность, конечно, не ахти какая, но «челобитцы» предпочитали обращаться не к начальнику, человеку маленькому и невзрачному, а к Кудрету, или, как его величали крестьяне, Кудрет-бегу, которому благоговейно излагали все свои горести и частенько приглашали в самый лучший ресторан, чтобы там не спеша посоветоваться по какому-нибудь пустяковому делу. Его, Кудрета Янардага, популярности способствовала не только представительная внешность, во многом ему помогал Идрис, мастер писать прошения, тот самый Идрис, который сейчас зарабатывал себе на пропитание компоновкой двух дрянных стамбульских листков: «Голос кустарей и лавочников» и «Вестник рабочих», а некогда зарабатывал деньги составлением прошений в провинциальном городке, где им обоим жилось легко и беспечно. От этих воспоминаний взволнованно забилось сердце.
А может, в телеграмме матери добавить: «Никому ни слова. Приезжай с Идрисом»?
В самом деле, почему бы не вызвать их обоих? Маменька, конечно, уже не первой молодости, но бодрится. Кое-что у нее осталось, немного у друзей займет — и хватит на дорогу. Тогда они с Идрисом заживут, как в золотые времена в том городке… Эх, покурить бы!
Идрис опять займется составлением прошений, а сам он поступит на службу в загс либо в контору по регистрации купчих крепостей и кадастров. Просители, разумеется, будут обращаться к нему, а не к начальнику и будут приглашать его в рестораны. Созерцая висевшую на стене вешалку, «ревизор» упивался сладкими мечтами. Его «я» словно распалось на две половины, которые беседовали между собой:
— Ах, что за жизнь была!
— Лучшего и желать не надо…
— Все делишки обделывал Идрис, не так ли?
— Что за вопрос? Вспомни, какое ароматное масло приносили просители, а мед какой…
— А яйца, а сметану?..
— А как денежки совали в руку под столом?
— И ведь Идрис всегда был честным.
— Твою долю приносил сполна.
— Зато ты отдавал ему большую часть масла, мед…
— Не мог же ты отдать ему меньшую часть!
— Еще бы! Ну, иногда отдавал ровно половину… А как радовалась тогда жизни моя маменька!
В те времена слава Кудрета гремела на всю касабу[11]. Это, конечно, не нравилось его невзрачному начальнику. Начальник злился, однако старался не подавать вида. А что ему оставалось делать? Не мог же он признаться: «Моего писаря уважают больше, чем меня…»
— Стоит ему написать прошение, — говорили о Кудрет-беге, — и считай, что человек спасен от виселицы!
— Это верно! Искры сыплются из-под его пера. Ну, прямо цены ему нет!
— А про Идриса что скажешь?
— Про этого ходатая?
— Да, про него. Он вроде бы ни в чем не уступает Кудрет-бегу?
— Идрис? В подметки Кудрет-бегу не годится!
Но как ни превозносили Кудрета обыватели касабы и всего ильче[12] с его многочисленными деревнями, как ни хвалили его местные грамотеи, те, что посильнее Идриса и даже каймакама[13], Кудрет отлично знал, чего он стоит, знал, что без Идриса толком не составит и немудреного прошения.
Нет, он не был склонен приписывать себе чужие заслуги, и если предавался воспоминаниям о жизни в касабе, то только потому, что там его любили и уважали. Не было дня, чтобы он не вышел в город распить бутылочку. И куда бы он ни заглянул, в шашлычную или в ресторан, везде его встречали низкими поклонами, усаживали на почетное место.
— Зайду, бывало, в ресторан, — продолжало его первое «я», — все как по команде вскакивают со своих мест — слышен только грохот отодвигаемых стульев. Не было случая, чтобы я сам расплатился по счету…
— Но ты не оценил этого, — упрекало второе «я», — переметнулся в Стамбул!