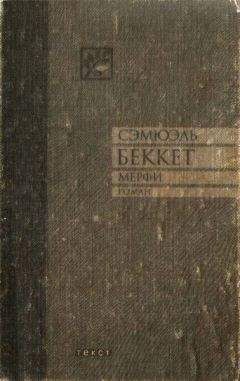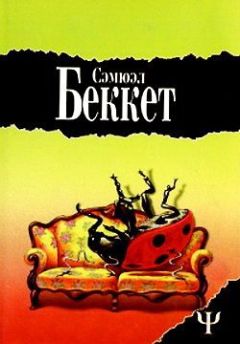Но что такое Вилдад, как не сколок с Иова, так же, как Софар и прочие — сколки с Иова. Единственное, чего искал Мерфи, это то, чего он непрерывно искал с момента, когда посредством удушения ему открыли дыхание — лучшего в себе. Лига Блейка пребывала в полнейшем заблуждении, полагая, что он выжидает qui vive[23] кого-то, достаточно несчастного, чтобы утешиться каким-нибудь сократическим софизмом вроде: «Как он может быть чист, раз родился?» В полнейшем заблуждении. Для сострадания Мерфи не требовалось иного объекта, кроме себя.
Его невзгоды начались в самом раннем возрасте. С vagitus — чтобы не углубляться дальше — он разошелся с положенным «ля» согласно международному концертному стандарту высоты тона при 435 двойных колебаниях в секунду, издав его с двойным бемолем. Как поморщился, заслышав его, честный акушер, благочестивый член Дублинского оркестрового общества и любитель-флейтист не без своих достоинств, с какой скорбью записал он, что из всех миллионов крошечных глоток, которые в унисон шлют проклятия в данный момент, фальшивила лишь одна — глотка младенца Мерфи. С vagitus, чтобы не углубляться дальше.
Его предсмертный крик загладит это прегрешение.
И костюм у него был не зеленый, а цвета медной яри. Никак не лишне особо подчеркнуть это для Лиги Блейка. В действительности он местами был так же черен, как в тот день, когда был куплен, местами требовалось сильное освещение, чтобы увидеть на залоснившейся поверхности белесовато-сизый отлив, в остальном, надо признать, он был цвета медной яри. Фактически взору представал реликт той радужной поры, когда Мерфи, студент-теолог, пролеживал ночи без сна с Supplementum ad Tractatum de Matrimonio[24] епископа Бувье под подушкой. Ничего не скажешь — вещь! Сценарий Ciné Bleu[25] на скабрезной латыни. Или же размышляя о насмешке Христа под конец — «совершилось»[26].
Покрой был не менее удивителен, чем цвет. Пиджак, который и так сам по себе есть простая труба, свободно висел, не касаясь тела, спускаясь до середины бедер, где полы слегка загибались, подобно краю колокола, в немом призыве поднять их, и противиться этому, по наблюдениям некоторых, было трудно. В пору своего расцвета брюки сидели, являя вид такой же горделивой и несгибаемой автономии. Теперь же, когда они превратились в бесконечно жалкое подобие гармошки и были вынуждены для поддержки льнуть то тут, то там к находившимся внутри них ногам, эффект штопора выдавал их усталость.
Жилета Мерфи не носил никогда. В жилете он чувствовал себя похожим на женщину.
Что до использованной в костюме материи, то изготовители отважно заявили, что она дыроупорна. Это была правда в том смысле, что в ней совсем не было отверстий. Она совершенно не пропускала воздуха из внешнего мира и не позволяла улетучиваться собственным испарениям Мерфи. На ощупь она скорее напоминала нечто валяное, нежели ткань, должно быть, в ее состав вошло изрядное количество клея.
Эти останки приличного платья Мерфи оживил совершенно простым готовым галстуком-бабочкой лимонного цвета, который был представлен, словно в насмешку, совместно с последним в своем роде сооружением из воротничка с манишкой, вырезанным из цельного листа целлулоида и без единого шва, одного возраста с костюмом.
Шляпы Мерфи не носил никогда, пробуждаемые ею воспоминания о водяной сорочке в утробе, особенно когда приходилось ее снимать, были слишком мучительны.
Ретировка в таком наряде происходила медленно, и Мерфи поступал благоразумно, оставляя надежды на день вскоре после ленча и начиная долгий подъем домой. Лучшей частью пути заведомо была та, когда он, надрываясь, тащился от Кингз-Кросс в гору по Каледониан-роуд, что напоминало ему, как он тащился от Сен-Лазара в гору по Рю-д’Амстердам. И хотя Каледониан-роуд — отнюдь не бульвар Клиши и даже не бульвар Батиньоль, конец подъема был лучше и того и другого, как убежище, после определенного момента, лучше изгнания.
На вершине находилось маленькое убежище, точно головка прыща — сад на Маркет-роуд, напротив фабрики по переработке требухи. Мерфи любил сидеть здесь, уютно пристроившись между ароматами дезинфицирующих средств фирмы «Милтон», совсем рядом, к югу от него, и зловонием, исходившим от скота, содержавшегося в стойлах в загоне, совсем рядом, на запад от него. Требухой не пахло.
Но теперь снова настала зимняя пора, юным помыслам ночи передвинули стрелки на час назад, сад на Маркет-роуд, multis latebra opportuna[27], закрывался до того, как Мерфи должен был возвращаться к Селии. Тогда он обыкновенно убивал время, прогуливаясь круг за кругом, вокруг Пентонвилльской тюрьмы. Точно так же он раньше по вечерам ходил вокруг соборов, круг за кругом, когда опаздывал войти.
Он заблаговременно занимал позицию в начале Брюэри-роуд, чтобы, когда часы на тюремной башне покажут шесть сорок пять, можно было без промедления взять старт. Затем медленно миновать последние пределы, Мастерские Упорного Труда и Трезвенности, хлебозавод компании Vis Vitae[28], Мануфактуру Маркса по производству Пробковых Матов для ванной и, наконец, стать у двери, вставив ключ в замочную скважину, дожидаясь, когда начнут бить часы на рыночной башне.
Первое, что должна была сделать Селия, — это помочь ему вылезти из костюма, а также улыбнуться, когда он скажет: «Представь мисс Кэрридж в подобном халате»; затем, пока он, согнувшись над огнем, пытается согреться, постараться прочесть что-то по его лицу и воздерживаться от вопросов; затем накормить его. Затем, пока не придет время вытолкнуть его на улицу утром, — серенада, ноктюрн и albada[29]. Да, с июня по октябрь, исключая блокаду, их ночи все еще оставались такими: серенада, ноктюрн и albada.
Гороскоп Мерфи, составленный Суком по небесным светилам, повсюду сопровождал сего рожденного под несчастливой звездой. Он заучил его на память, он напевал его про себя в пути. Не раз вынимал он его с намерением уничтожить, на тот случай, если сам он попадет в руки врага. Но его память была так предательски ненадежна, что он не решался. Он соблюдал предписания гороскопа, насколько это было в его возможностях. След лимонного цвета присутствовал в его облачении. Он неизменно бдил, готовый дать отпор всему, что угрожало бы его Хайлегу и вообще всей его персоне. Он немало страдал по части ног, и его шея не была вполне избавлена от боли. Это преисполняло его удовлетворением. Это соответствовало диаграмме и ровно настолько же уменьшало опасность воспаления почек, базедовой болезни, болезненного мочеиспускания и припадков.
Оставались, однако, определенные условия, соблюсти которых он не мог. У него не было соответствующего драгоценного камня для обеспечения успеха; на самом деле у него не было вообще никакого камня. Он содрогался при мысли о том, как по причине его отсутствия возрастала вероятность неудачи. Счастливое число не совпадало с воскресеньем на протяжении еще целого года — до 4 октября 1936 г. ни одному из начинаний Мерфи не будет сопутствовать максимальный шанс на успех. Это также служило постоянным источником тревоги, поскольку он был уверен, что задолго до того исполнится его собственное маленькое пророчество, основанное на единственной системе, помимо небесных тел, — его собственной, — к которой он питал маломальское доверие.
В отношении карьеры Мерфи не мог не чувствовать, что звезды повинны в известной избыточности, — ведь там, где предписано посредничество, остальные определения излишни. Ибо что такое была всякая работа с добыванием средств к существованию, как не сводничество и сутенерство ради денежных мешков, развратных тиранов человека, денежных мешков, чтобы они могли плодиться.
Между двумя единственными системами, к которым Мерфи мог питать маломальское доверие, существовала, видимо, некая дисгармония. Тем хуже для него, разумеется.
Селия заявила, что, если он не найдет работу немедленно, ей придется возвращаться к своей. Мерфи знал, что это значит. Больше никакой музыки.
Эта фраза выбрана с особым старанием, чтобы не лишить грязных цензоров возможности прибегнуть к своей сальной синекдохе.
Понукаемый мыслью о том, что он может потерять Селию, пусть даже только на ночь (поскольку она обещала больше не «бросать» его), Мерфи, нервно теребя свой лимонный галстук-бабочку, обратился на свечной склад на Грэйз-Инн-роуд, относительно должности мальчика на побегушках. Впервые он теперь действительно предстал как претендент на определенный пост. До этих пор он довольствовался тем, что неопределенно демонстрировал себя в отрешенных позах крепкого телом человека на периферии наиболее посещаемых точек по найму рабсилы или таскался взад-вперед между агентствами от одного столба к другому, собачья жизнь без собачьих преимуществ.