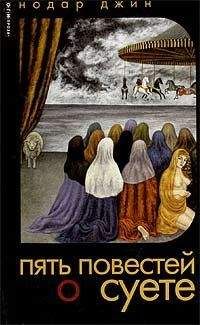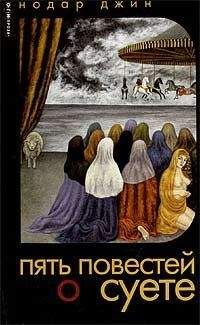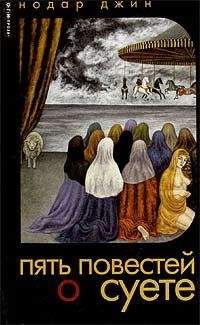Впритык к помосту стояли скамейки с высокими спинками, а на скамейках, поёживаясь от холода, сидели вроссыпь, как вороны на проводах, восемь безбородых старцев. Каждый сидел в собственной позе устаашего человека, но в каждой из этих поз проступало то особое состояние одиночества, которое возникает не от долгих лет существования или покинутости людьми, не от изжитости надежд или истраченности страстей, но от близости иного, главного, одиночества — одиночества могилы.
Кто знает, думал я, шагая к ним по дорожке, быть может, поэтому старые люди и кажутся мне носителями единственно возможной, нездешней, мудрости. Той самой, которая уже пробилась к ним из близкого теперь пространства небытия. Не жизнь делает человека мудрым, а приближение смерти.
Когда старые евреи внимательно разглядели меня, один из них, убрав с носа очки, произнёс:
— Что?
— Я тоже еврей, — ответил я, но никто не шелохнулся.
— Откуда? — спросил он же.
— Из Москвы.
— Третий Рим! — и над ним сразу же посмеялись:
— Левин у нас считает только до трёх!
— В общем-то я из Тбилиси, — поправился я.
— Второй Париж! — рассмеялся Левин. — Слушай, Кипнис, вот ты опять посмеёшься, а оно так и есть. Сами французы говорят: Тбилиси — второй Париж!
— Это говорят не французы, поц, а тбилисцы, которые не видели Парижа, — хихикнул Кипнис и повернул ко мне изрытое оспой лицо. — Всё на свете существует в одном экземпляре!
— А говорят, Вильна — второй Иерусалим, — ответил я.
— Об этом как раз спроси у Кипниса, — хмыкнул Левин. — В Иерусалим едет у нас он, ему и знать.
— Вильна — не второй Иерусалим, — подвинулся Кипнис к Левину. — И не третий. Первый Иерусалим — это старый Иерусалим, второй — это сегодняшний, а третий — это в который мне разрешат уехать. Через 120 лет и ещё 120 дней.
Я улыбнулся ему, но он меня не понял и обиделся:
— Молодые думают, что старики дураки, но старики знают, что дураки — это молодые.
— Ну и кто прав? — поддержал я его.
— Мёртвые. Догадываются, что дураки и те, и другие.
— Правильно! — обрадовался я. — Подумал об этом сам!
— Тебе так думать рано! — рассудил Кипнис. — И пришёл ты сюда не думать.
— А у вас тут трудно уезжать? — сменил я тему.
— У него шурин збарски, — подвинулся к Кипнису третий старик, жёлтый и сухой, как пергамент.
— Что такое збарски? — спросил я.
— «Что такое збарски»?! — хмыкнул он. — Збарский — это большой человек. Збарский потрошил Ленина.
— «Потрошил»? — не понял теперь я.
— Хорошо — не спрашиваешь что такое Ленин! А напрасно! Ленин — это не то, что показывают у вас в мавзолее. Там показывают куклу с начинкой, — и помял пергаментное лицо.
— Пергамент-таки, наконец, прав! — сказал Кипнис.
— Пергамент? — удивился я.
— У него фамилия Пергамент, — пояснил Кипнис. — Не слышал такую фамилию? «Пергамент»?
— Слышал, — соврал я. — Так почему «кукла»?
— Как тебя звать? Не говори, важно другое: если бы ты был мёртвый, то был бы непригодный для жизни. Поставь тебя на ноги — упадёшь, скажи слово — не услышишь. Поэтому тебя — что? Зарыли бы в землю как непригодного для жизни. Но если б ты на что-нибудь годился, тебя порезали бы пополам и наложили вовнутрь всякое добро. Чтобы смотрелся как живой, правильно? Но всё равно: как бы тебя ни красили потом, ты будешь не как живой, а как кукла с фаршмагом! А твоему товарищу Ленину такой крупный брис сделал — кто? Правильно, мой хуев шурин Збарский.
— А при чём вы? Кто вас не пускает? Збарский?
— Этот поц давно мёртвый. Не пускает литовская власть. Уезжать, мол, пока нельзя. Это неуважение к товарищу Ленину! Ты, мол, из семьи Збарского!
— Что значит «пока»? — ухмыльнулся я. — Пока станете непригодным для исхода?
Ответил на вопрос не Кипнис, не Пергамент и не Левин, а толстый старик с задней скамейки. Всё это время, беззвучно шевеля губами, он беседовал с кем-то незримым. Наконец поднялся с места и подсел к живым товарищам:
— Слушай, я вот вижу про тебя, что ты задаёшь вопросы, а про себя молчишь. Сперва ты «из Москвы», потом, наоборот, «из Грузии». Ксивы есть?
Старики обменялись одобрительными взглядами. Я протянул документы, и самый крохотный из евреев, с бородавкой на носу, подошёл ко мне и сказал вполголоса:
— Ты не сердись на Маткина: он человек прямой, но головастый. В прошлом году приходили двое живых людей и задавали вопросы. Маткину это не понравилось, и он оказался прав: взяли Цаплю Гуревича. С тех вот пор у нас и нету миньяна*. Люди уезжают или умирают и ложатся на кладбище. Там уже места не осталось, всё покрыто плитками. Но не читай: одна неправда! «Благородная душа», «мудрый, как пророк». Больше всего неправды написано не в книгах, а на кладбищах!
— А что с Цаплей? — спросил я шёпотом.
— «Сионистская агитация».
— Что же он говорил?
— Только глупости: он дурак. Но говорил по-еврейски.
— А как вы тут теперь без миньяна?
— Мы восемь и Смирницкий с женой. Сейчас придут.
— А разве можно? Жена ведь у него, наверно, женщина?
— Женщина! — подтвердил он. — Но таких уже нету: сидит и молчит. А говорит только «аминь». Хотя в Талмуде написано, что женщины лгут молча, в Библии сказано: всякий лжив. И всё-таки все мы, наоборот, молимся.
Старики закончили осмотр документов, и Маткин, обратившись к моему собеседнику, произнёс:
— Не делай его беременным, Моисей: он пока не старый! — и, возвращая мне бумаги, добавил: — Человек занимается философией и зашёл немножко отдохнуть, правда?
Я кивнул головой, то есть соврал. Не отдыхать я пришёл туда, а фотографировать.
Хотя свободнее всего всякие старики чувствовали себя в синагогах, где у них возникала иллюзия защищённости, — камера наводила на них ужас. Они страшились, что фотография может выдать их существование миру, в котором уберегает анонимность. Подражание несуществующему. Поэтому я наловчился снимать скрывая привязанную к груди камеру под курткой.
К камере прикрепил длинный трос, уходящий в карман, и если шум вокруг мог перекрыть пощёлкивание затвора, я отодвигал шарф на груди и давил спусковой рычаг. Легче всего это удавалось мне во время молитвы, когда еврей воровато — для себя одного — приоткрыв окно в небо и высунув голову, не замечал никого кроме Бога.
По приходу Смирницкого с женой и с началом службы, я — как бы в молитвенном рвении — стал то и дело выскакивать вперёд к помосту, а при возвращении разворачиваться грудью к старикам и щёлкать. Время от времени выкрикивал невпопад «Аминь!», но никто кроме Поли Смирницкой этого не замечал.
В заношенном мужскои пальто с огромными пуговицами, она сидела на дальней скамейке и поначалу не сводила с меня изумлённого взгляда. Решив, должно быть, что я из трясунов, успокоилась, опустила голову вниз и уже не отводила глаз от залатанной сумки на коленях. Когда я или кто-нибудь из стариков выкрикивал «Аминь!», сумка вздрагивала, как живая, и Поля поглаживала её по бокам.
Сгорая от любопытства, я ждал того момента в молитве, когда — в почтении перед Богом — надлежит отступить назад на шаг. Я отступил на семь и увидел в сумке цыплят! Трясущихся то ли в страхе перед будущим, то ли из подражания старикам.
— Я Поля Смирницкая, — сказала старуха с виноватой улыбкой. — А это цыплята.
Глаза её, такие же крупные, старые и тусклые, как пуговицы на пальто, показались мне с чужого лица. С лица напуганной птицы. По моим расчётам, в катушке оставалось не больше двух кадров, и я соображал — как же именно надо пригнуться чтобы камера не проморгала ни её взгляда, ни цыплят в сумке, ни распахнутой двери с видом на пустынную улицу, откуда в синагогу просачивались безвременье и скука.
Когда я наконец выбрал позу и собрался надавить на рычаг, Смирницкая мотнула головой, отгоняя муху. Муха не унималась, и старуха стала чувствовать себя ещё более виноватой.
— Это муха, — кротко сказала она и добавила: — А у вас они есть? Мухи.
— Вы про Москву? Или Тбилиси? — спросил я. — Больше, чем цыплят.
Муха слетела к цыплятам. Они заморгали как сама еврейка.
— А у вас тут чего больше? Цыплят или мух? — продолжил я.
— Живых мало, — ответила Смирницкая. — Я про цыплят. И только на рынке. Нам, правда, с Фимой дают в неделю по цыплёнку на каждого в нашем магазине для ветеранов. Всё равно дорого.
— Ветеранов чего?
— Войны. У Фимы есть орден! Он политрук был, аминь!
— Что?
— Аминь! — и кивнула в сторону раскачивавшихся стариков. — «Шма исраел адонай элоену адонай эхад!»
— Конечно, аминь! — спохватился я и, повернувшись в сторону Фимы, не смог поверить, что этот покрытый белым пухом старичок в засаленной шляпе был политрук в Красной армии. Он не походил даже на еврея. С крохотными ладонями и розовощёкий, Фима напомнил мне фарфоровую статуэтку тирольского музыканта.