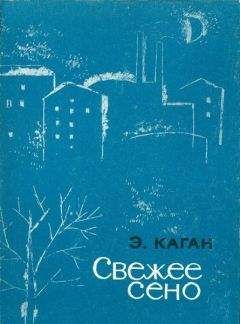Монька остается с Пилинкой. Он чувствует на себе ее взгляд. И ему кажется, что если дальше так пойдет, то он превратится в соляной столб.
Листья на деревьях перешептываются.
«К дьяволу, ко всем чертям!»
4
Было собрание. Говорили о переходе на семичасовой рабочий день. И надо признаться, что Метер, этот тихий Метер, произнес совсем неплохую речь, и надо согласиться с Монькой Минкиным, который при этом подумал, что у влюбленных особое чутье к слову.
Но что же сделал Монька Минкин? Он сделал глупость. Он выступил и сказал, что не нужен семичасовой рабочий день. Теперь, когда мы говорим о социалистическом соревновании и поднятии производства, это лишняя затея…
Глупость, глупое выступление…
Зачем он это сделал, Монька Минкин? Может быть, он хотел обратить на себя внимание; ему, очевидно, обидно было, что заведующий в своем докладе лишь вскользь упомянул о его, Минкина, изобретении. А может быть, ему хотелось сделать это наперекор Метеру.
Но когда Метер подходит к нему и говорит: «Ну… Не то ты сказал… это уклон», он чувствует, что Метер остался прежним Метером, что Метер ничего не имеет против него.
Ах, какой это человек, этот Метер!
Потом они идут домой, он, и Метер, и Пилинка тоже. Сначала он чувствует себя, как вор среди двух конвоиров.
И когда Монька видит, что Метер молчит и дожидается, чтобы он, Монька, заговорил, а Пилинка смотрит ему в рот и ждет его слова, он чувствует себя бодрее, он чувствует, что это он ведет их двоих и ему одному нужно следить за обоими.
Ботинки на ногах — какие они умные! Ботинки повернули и пошли в парк. Никто, кажется, не думал даже о том, чтобы пойти в парк. У входа в парк Монька предлагает Метеру купить мороженое.
Странный человек этот Метер! Он может точно повторять свои прежние движения. Потому что Метер — сюда, Метер — туда, он жмется, точно так же, как тогда в парке. Глупый Минкин, это, конечно, глупость, что он попросил его купить мороженое.
Это, кажется, та же самая скамейка, — и они усаживаются.
И если хотите знать, то сегодня снова прекрасная ночь. Много прекрасных ночей у весны! И если хотите знать, то я могу начать рассказ сначала, потому что взгляните только на эту ночь — такая же чарующая ночь, и взгляните вы на Пилинку — ее глаза снова ждут, ее губы снова зовут.
Но я не буду начинать сначала, потому что Моньке Минкину не хочется сидеть, как тогда. Бедная Пилинка, что они от нее хотят, эти весенние вечера?.. Монька глянул на Метера, у Метера глаза ничего не говорящие.
Какой прекрасный человек этот Метер!
Вдруг Монька поднимается и говорит, что он сейчас придет.
Он идет и думает, почему он ушел. Потому что он чувствует себя виноватым перед Пилинкой?
Он вспоминает последние свои слова: «Какой прекрасный человек этот Метер!»
Ему начинает казаться, что он это сделал ради Метера, чтобы оставить их одних.
И когда он возвращается, он прежде всего вглядывается в глаза Пилинки и видит, что они все еще ждут, а ее губы — они все еще зовут.
А Метер сидит в прежней своей позе. Метер совершает, как всегда, свои обычные движения. Тогда Монька спохватывается — нет, не то! Это он хотел испытать Пилинку.
Зачем?
Да так!..
И Монька смотрит на Пилинку, словно собирается наконец объясниться.
А Пилинка уже навострила уши.
И Метер отворачивается — как гость, не вовремя заглянувший.
Но Монька пожимает Метеру руки. А Метера ничем не удивишь.
Пилинке Монька ничего не говорит. Вызубренные слова его не годятся. Он почему-то не может с новой девушкой говорить своими старыми словами.
В небе сгустились тучи. Тучи опустились ниже. Дождь льет, а они все трое сидят под дождем. Охота ведь — сидеть в парке под дождем!
Монька пришел домой весь промокший. Он не мог уснуть. Когда же он задремал, то в голове у него путались и переплетались обрывки снов. Время от времени он просыпался и ничего не мог вспомнить. В голове была какая-то сумятица.
…Вот Монька гуляет с Метером и Пилинкой. Странно. Луна путается в ногах и мешает идти. А звезды сыплются в карман.
Они останавливаются. Пилинка говорит:
— Я влюблена.
Метер спрашивает:
— В меня?
Он, Монька, спрашивает:
— В меня?
Пилинка отвечает:
— В обоих!
На этом он проснулся.
В одно прекрасное утро в типографии хватились, что нет Метера. Со стороны узнали, что он уехал куда-то далеко. Чего это он вдруг уехал? Странное дело с этими тихонями. Все у них случается внезапно.
Но о Метере скоро забыли.
А Монька все еще ухаживает за новой накладчицей. Но кого это трогает? Обидно только, почему он, Монька, прикидывается дурачком.
А тут вдруг организуется воскресная прогулка. Играет оркестр, и вот все пошли в пляс по зеленому полю.
А эта Пилинка — она все время танцует с Монькой. И Монька так легко сегодня пляшет.
И многие подходят к Моньке и говорят ему:
— Вы сегодня совсем как юноша!
Может быть, это мелочь, а может, и нет, но это все же изобретение. Он изобрел приспособление к машине, чтобы она, обрезая блокноты, тут же прокалывала линию отрыва листков. И это дает большую экономию. Торжественного вечера устраивать уже не стоит. Мы зажгли вечный огонь, и нам теперь не нужно разжигать его каждый раз. Может быть, Моньке Минкину это обидно? Нет, ничуть. Представьте себе, Монька теперь думает совсем о другом. Он подбирает слова, новые слова, которые он хотел бы сказать Пилинке.
1
Вот до чего додумался Гесл Прес — бывший портной. Теперь ему больше нечего делать в армии. Он может уйти домой.
В те утюжно-горячие дни работы было — успевай только подавать. Машину вертела огромная ступня революции, и дни летели, как стежки, друг за другом, и хорошо было самому следить за стежками, хорошо было стоять за машиной!
А теперь?.. А теперь надо все упорядочить. Нужно пуговицы пришить.
После гражданской войны он еще два года оставался в армии. Может, дни снова замелькают как стежки. Но он день ото дня видел в газетах все больше цифр. Цифры тянулись друг за дружкой в непрерывном ряду, как на «сантиметре». И он взвалил на плечо котомку и подался домой — работать с «сантиметром».
Домой — к себе, на еврейское подворье. Еврейское — потому, что во дворе проживало сорок еврейских жильцов, а единственного нееврея — сапожника Тимоху — называли на еврейский лад «Итче-Мохе».
Поселился Гесл Прес в комнате у хозяина Диванчика, который последовательно превращался из купца в спекулянта, из спекулянта — в нэпмана, а теперь со дня на день ждал возмездия.
Очутившись в комнате, Прес потянулся, закинув руки назад: его переполняло огромное чувство, но какое — он и сам не знал. То — веками накопленная энергия дедов, прадедов и прапрапрадедов, которые жизнь свою провели с зашитыми ртами и лишь редко-редко, день или два дня в году, подавали о себе голос. А его, Гесла, рот открыт теперь круглый год. Когда он приходит домой, он зарывается головой в подушку. Долго-долго молчали… А теперь?.. Теперь Гесл Прес говорит даже во сне. Он боится, как бы ночью не проговориться крепким русским словом. А за стеной ведь люди спят, а за стеной ведь спит Ципка. Он боится, как бы Ципка не услышала от него грубое слово.
Ципка живет у Диванчика и обслуживает его. Диванчик говорит, что она его родственница, и не платит за нее в страхкассу…
Ципка — девушка что твоя модель, точно со страницы журнала сошла.
Какое личико, какие щечки, а глаза — как бездонные небеса.
Прес знает в этом толк. Что греха таить — Пресу она нравится, эта девушка.
Завидя ее, он обязательно должен спеть: «Твое личико, твоя талия, твоя стройная фигурка…»
А она пытается убежать и всегда попадает в его объятия, и никто в мире не скажет, что она нарочно сдалась.
И странная у него привычка — от этого Ципка хочет отучить его. Он, Гесл, впадая в телячий восторг, обязательно должен благословить ее по-портновски:
— Эх, Ципочка, холера тебе в талию!
И Ципка не убегает от Гесла. Ей с Геслом весело. Парень недурен. К тому же орден Красного Знамени на груди. Ей даже нравится, как он по-медвежьи переваливается из стороны в сторону: топ вправо, топ влево. Никакого равновесия в плечах.
И она, Ципка, принимается учить его ходить прямо.
— Сначала, — говорит она, — ставят одну ногу, потом другую. У лошади, — говорит она, — четыре ноги, и то она не сбивается.
Был апрельский день, но чувствовались все времена года. Еще светился перламутром зимний снег при свете чуть ли не летнего солнца. А с крыш свисали ледяные косички, радугами горевшие на солнечном костре, раздуваемом осенним ветерком.
Приятно было ощущать в себе все времена года. И Гесл с Ципкой сидели во дворе на бревнах, вовсю вдыхали светлый воздух, вбирали побольше солнца, и Ципка сама начала излучать тепло и светиться, и текли горячие слова, и лучились глаза. Как хорошо ощущать в себе все времена года! И Ципка взялась отучать его от портновского благословения «Холера тебе в талию».