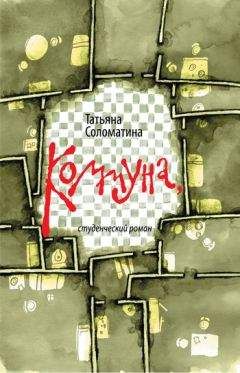Они сами удивлялись, как резво и быстро начали этот подъем, однако, как в писаниях описано, «сделанное из глины», а годами истерзанное и иссохшее тело человека уже не соответствует дару Бога — вечно молодому духу и сердцу, они скоро вновь выбились из сил. И, как старший, Кнышевский больше, и все дольше их остановки. А Ваха торопит, дергает веревку, как поводырь, а его напарник скулит:
— Ты сказал двести метров, а небось уже полкилометра ползем. Где твой край?
— Не шуми! Береги силы. Вся высота — три двести. Осталось чуть-чуть, держись.
— Я руку порезал.
— Терпи, до наших свадеб заживет.
Не верить в это не хотелось, и они через не могу медленно продвигались, как случился срыв: на одном из самых опасных, почти отвесном переходе, колышек под Кнышевским вдруг обломился. Вот тут, если бы Ваха не подстраховал, вцепился он в выступ, а предательское сознание уже рисует картину, как он словно мешок бьется о скалу, с камнепадом летит и плашмя на металлический люк БТРа. С такой мыслью бороться нелегко, и хорошо, что рядом партнер, которого он только теперь впервые в жизни хочет назвать другом.
— Кнышевский, живой?
— Вершину видно?
— Скоро, — подбадривая друг друга, они вновь пошли. И опять из-под ноги Мастаева выскочила глыба. И благо — вскользь, по плечу, ведь все на волоске, но Аполлоныч удержался. И оставалось совсем немного. И Ваха это уже видел, а Кнышевский по опыту чувствовал, потому что воздуха не хватает, на перепонки давит, очень холодно, конечности коченеют. И ветер порывистый, свистящий, беспощадный ветер, готовый слизать все живое, как язык ящерицы, муравья. И этот ветер, этот ледяной, и по отношению к их судьбе, ветер пригнал черную, влажную, холодную тучу, так что Мастаев с ужасом отчего-то вспомнил ледяную баню псих-лечебницы. И если бы не друг за спиной, которому он крикнул: «Эй», а тот ответил угрюмо: «У-у», стало бы совсем плохо. А так, храбрясь друг перед другом, они застыли, приледенев к скале, зная, что на этой, теперь уже скользкой тропе их окоченелые руки и ноги не помогут, могут только стоять, но это совсем невыносимо. Они застыли надолго, лишь изредка возгласами подбадривая себя. А потом и на это сил не стало. И хорошо, что в таком густом тумане каждый звук прекрасно слышен, они чувствуют частое, да еще живое дыхание друг друга. И тут до них донесся гул — вертолет, пожалуй, не один. И он не скоро, да исчез. А Мастаев понял, что, как в легендах, это облако спасало их жизнь. Его настроение явно улучшилось, и, как гармония с природой, эта туча стала резво редеть, словно Создатель включил свет — сразу посветлело. Утреннее солнце подарило тепло.
Ваха знал это место. Отсюда открывается потрясающий вид, словно из космоса, на все Шароаргунское ущелье, по которому блестящей змейкой искривилась родниковая артерия неугомонной реки. Осенью эта ярко-пестрая панорама оказалась еще более сказочной, завораживающей. И как когда-то, когда не было войны и у него были дед Нажа и мать, и он был беззаботно счастлив и кричал, когда увидел радугу над ущельем, он и сейчас, увидев вновь ту же радугу:
— Аполлоныч, посмотри, какая радуга, какая красота! — кричал он, как ему казалось, на всю Вселенную. — Мы спасены! Мы выползем из ада. Мир! Какой мир! Свобода жить! Пошли! — он рванулся навстречу солнцу. Однако груз, словно непомерные земные грехи, тащил его обратно. — Пошли! — почти со злобой зарычал Ваха, напрягаясь из последних сил. И тут, точно лезвием по сердцу, как струна натянутся веревка со стоном перерезана. Мастаев вдруг почувствовал телесное облегчение, а в душе наступил мрак — он только-только обрел друга и тотчас потерял его. И была мифическая мысль: броситься вслед, схватить на лету, обоим как-то спастись. Но ведь он не совсем дурак, а лишь по справке и по решению какого-то российского суда. И его ждет сын. И он хочет, ой как хочет покорить гору, чтобы под горку до ночи добраться до родного села. А там пчелиная музыка из фортепьяно любимой Марии.
Эта мысль подстегнула и помогла из последних сил карабкаться вверх. Оказалось, совсем немного — и этот смертельный участок позади. Ваха даже не передохнул, а, как почувствовал надежную опору, глянул вниз и восторженно закричал:
— Аполлоныч, ты здесь? Ай! Держись, держись. Мы будем жить!
Теперь это была не веревка с ремнем, это была спасательная жила, к которой привязано все, что можно, — куртка, брюки и даже рубашка. И вряд ли эта хилая связка, за которую Кнышевский смог вцепиться только зубами, правда, мертвой хваткой, могла бы спасти, то есть удержать, тем более поднять этот вес, — просто, очень просто, это был рукав дружбы, спасения, единства!
Что ни говори, а они оба повидали жизнь и знали, что все еще впереди. Впереди главные сражения, после которых может быть праздник — тоже впереди. Однако эта борьба, эта победа, сплотившая их, дала им огромный импульс жизни, без которого их дальнейший побег был бы обречен, не один вертолет завис здесь.
— Ну и персона вы, Митрофан Аполлонович, целая армия ищет вас, — с некой иронией говорил Ваха, когда они только волей и характером покорили уже слегка заснеженную вершину Басхой-лам, потом почти кубарем понеслись под гору, вплоть до спасительного низкорослого хвойного леса. А когда оказались в густом смешанном лесу, где Ваха знал почти каждую тропку (а они только звериные), им стало спокойнее, и, найдя что-то вроде летнего лежбища медведя, там завалились мертвецким сном.
От ночного холода они одновременно пробудились: оказывается, во время сна они лежали, плотно прижавшись друг к другу. Было очень темно. Гробовая тишина. Прелый, противно-сальный запах дикого зверя, гниющего мха и сырой земли. Спросонья они еще не могли вполне оценить реальность своего положения, как рядом, почти над их головами, раздалось гортанно-глухое «ху-хуу». В ответ с низины такой же звук, свист, и следом громкий детский плач.
— Шакалы, — от холода выбивает дробь челюсть Мастаева.
— А вдруг, — дернулся Митрофан Аполлонович.
— В берлогу медведя не сунутся, — успокоил Ваха. — Надо дождаться рассвета.
— Ху-хуу, — снова над головой, взмах мощных крыльев: сова куда-то улетела.
Вновь в лесу тишина, темно, а Кнышевский заерзал:
— Кто бы мог подумать — попасть в такую круговерть. А теперь в лесу, вроде человек, а тропа зверя, жилище зверя. Озверели?
— Сами виноваты, — то ли напарника, то ли все человечество, в том числе и себя, обвиняет Мастаев. — «Образцового дома» — нет, хоть какой-то культурной элиты — нет. А потом, и «Дома проблем» — нет, выборов — нет, лишь ваш «итоговый протокол», в результате ваш суд — как «большевистская тройка» — всех под репрессию. Словом, сук, на котором сами сидели.
— Ты уже сдался? — злой шепот Кнышевского.
— Не я сдался, а вы все «сдали», продали, пропили. Нам надо бороться! — вскочил Мастаев.
— Правильно, — Кнышевский тоже поднялся. — Надо двигаться, не то околеем. И лучше ночью, как звери. Куда пойдем?
— Как куда? Тут рядом Макажой, мой дом.
— Нет ни у тебя, ни у меня теперь дома, — на весь мир злится теперь Кнышевский. — Наверняка там нас ждут.
— Выбора-то нет.
— Надо думать. Пойдем. Все ж веселей и теплей. А рассвет покажет, ведь утро вечера мудреней.
И это утро показало, что их положение не завидное. В небе гул вертолетов, пару раз пролетали прямо над головою. Хорошо, что листва не совсем опала. А пойти до родного села, там просторы альпийских лугов и невооруженным глазом, глазом охотника, к тому же местного жителя, все видно — кругом по лощинам засады.
— Надо ночью идти, — шепчет Мастаев, — в подлеске хоронятся они.
— Ты думаешь, спецназ такой глупый: ночные приборы есть, — озабоченно говорит Митрофан Аполлонович. — Да что ты забыл в деревне своей.
— На разрушенный дом посмотреть, там разбитое фортепьяно Марии, в нем до сих пор пчелы моего деда живут, для нас мед приготовили, а аромат там какой!
— Сказочник ты, Мастаев, — сплюнул Кнышевский. — Завидую я тебе, дураку. Кроме пчел и Марии, более и забот нет.
— А не надо заботы создавать.
— А как без забот, если даже наш «Образцовый дом» называли не иначе, как «Дом проблем».
— Это вы писали.
— Я пешка, исполнял приказ.
— Хм, — усмехнулся Мастаев. — Зато теперь вы маршал, вас разыскивают как злостного врага.
— Заткнись, дурень, — процедил Кнышевский. Жестом приказав следовать за собой, он углубился в лес, усталый, остановился. — Нам надо где-то перекантоваться несколько дней: передохнуть, подумать, и дабы эти угомонились, мол, шакалы нас съели иль свалились со скалы.
— Есть такое место, день пути.
Это время, когда Мастаев был очень молод и здоров, и мирное небо над головой. А теперь все иначе, и хорошо у обоих боевой опыт — минные ловушки кругом. И еще благо, осень, лес щедро кормит: орехи, переспевший дикий виноград, яблоки, груши, мушмула. А Кнышевский и в грибах знаток; впрочем, как и в методах работы спецслужб. Еще задолго до того, как они подошли к цели, а это глухой хутор в диком лесу, куда трактор не всегда доберется, и живут там отшельниками две семьи, четыре хижины, как сараи, всего с десяток человек, из которых только двое пару раз в городе бывали. Их жизнь — кукуруза, скотина, ульи, охота, рыбалка, лесной сбор. Гостей они уважают, но к себе не зовут: берегли свою обособленность и даже не знали, что такое цивилизация и что идет война. Однако она и до них дошла. Как беглецы поняли, их и здесь искали: по одноразовой посуде и другим следам десант лишь накануне здесь был. Все разрушено, на месте одной хибары большая воронка — с воздуха удар.