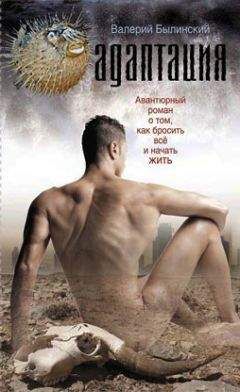– Да, да… мне надо только вспомнить…
– Ведь не может быть, чтобы одна секунда хоть чего-то, но значила. Ведь если бабочка умирает за день, значит, она не просто так мало живет, и это не мало?
– Да… где-то я видел эту секунду… и помнил, помнил, как много может вместиться в ней жизни… Мне надо ее найти…
– Я помогу тебе, милый, давай вместе… Господи, как темно. Я почти не вижу тебя! Давай искать…
– Мне очень надо вспомнить, родная… мне кажется, это важнее всего… Неужели что-то одно может быть важнее всего!
– Может, может! Я всегда это знала, хотя и не знаю, что это… Но мы ищем, мы это найдем…
– Это было где-то там, в тепле, на солнце, на желтом солнце, в боли, в нескончаемой боли…
– Да, да… если у тебя осталось несколько минут, даже несколько секунд – вечность туда вполне может вместиться. Даже если одна секунда осталась. Это ведь довольно много – целая секунда времени. Посчитай, закрыв глаза: раз, и-и… И если не сфальшивить и делать, или хотя бы думать, в эти два длинных счета только лишь абсолютную правду – то все получится.
– Господи, как темно… я даже не вижу сейчас тебя, хотя прикасаюсь к твоему носу и целую его… Кто говорит сейчас эти слова – я или ты? Что происходит? Что… Кто мы… Откуда?.. Ведь не может же быть, чтобы было так темно! Мы – умираем?!
– Мне холодно, любимый…
– Что? Ты – еще здесь? Мы – еще здесь?
– Ты, кажется, хотел вспомнить о секунде.
– Что? Кто это? Ты?
– Милый, я здесь. И… мне страшно холодно.
– Мне тоже… Почему же говорили, что замерзать тепло… Нам должно быть тепло…
– Я… замерзаю…
– Я тоже. Господи, какой холод… О чем я думал? О чем хотел сказать? Как же холодно здесь, как больно!
– Ты хотел о секунде…
– Да, ты хотел мне сказать о ней…
– Кто это? Сид, это ты? Мать, это ты?
– Это я, мой хороший, я… Я… не могу согреться… совсем…
– Нет! Это нет! Это…
– Ты говорил о секунде… – О последней…
– Какой? О какой?
– О последней…
Не видя ее, я почувствовал, что ее глаза закрываются. Я обнял и прижал к себе ее голову – но она была уже холодной… Волосы – льдинки… Только щеки еще теплые… Что? О последней секунде? Умереть позже меня? Небо вверху медленно выключалось, словно гигантский экран телевизора… Нет! Нельзя умирать, не доделав, не дожив, нельзя. Вспомни, ты вспомни… Ты должен вспомнить. Что? Это что-то очень важное, важнее этого не бывает ничего на свете. – Знаешь что, – услышал я голос Сида из ванной. – Я тут подумал недавно, что хорошо было бы до смерти решить один главный вопрос. – Какой вопрос? – удивился я. – И почему до смерти? – До того, в смысле, как умрешь… – Сид, вытирая руки полотенцем, выходил в коридор. – Было бы обидно умереть и не решить этого вопроса. – Что же это за главный вопрос? Сид сузил влажные глаза, с улыбкой кивнул в мою сторону. – Ты знаешь. – Напомни. – Кто мы такие, откуда пришли и кто нас такими вот сделал, – буднично говорил Сид. – К чему все это, – он махнул рукой, обводя глазами все вокруг. – Почему это я, а ты – это ты, почему мы не камни и не пни, а вот такие, как сейчас… Почему мы такие фантастичные, – Сид взял себя руками за голову, – вот такие, с дырками рта, с кровью, глазами, с членом, с мозгами, с мыслями о смысле жизни… почему шевелимся, ходим… почему это мы? – Ты хочешь сказать… – начал я. И тот час же что-то вспыхнуло надо мной, словно гигантское пламя свечи, вспыхнуло… как экран… Я вижу! Вот оно – неужели я вижу? Секунду? Да… холм, люди, три деревянных креста с распятыми на них. Еще задолго до той самой секунды разбойнику, висящему на кресте, сказали: вот, если уверуешь вот прямо сейчас, до смерти… то все, смерти не будет, а будет небесное царство… и ты будешь в нем… И он… вдруг поверил… всего секунду… Лиза… Что-то сдвинулось в темноте и понеслось мне навстречу, и из меня тут же что-то выдернулось и понеслось к этому несущемуся на меня…
Что это?!
Взрыв. Совсем не больно, яркий, сияющий. Он осветил все вокруг, словно поднятый над озером факел: меня, сидящего на льду, Лизу, лежащую на моих коленях, километры белой пустыни вокруг. И я наконец-то в этом замершем факельном свете, понял то, что понял тогда разбойник на кресте. Секунду, которую он прожил длинно и счастливо, совсем другим человеком.
Он прожил ее живым.
Живым.
Живым…
– Элизабет! – заорал я.
Темное небо колыхнулось надо мной – так, словно в него, как в лежащего без сознания человека, кто-то пытался вдохнуть воздух.
– Элизабет!
На секунду шевельнулся, зашатался лед под ногами – и вновь затих.
– Э-ли-за-бе-е-ет!
В темноте надо мной начали тускло вспыхивать и гаснуть звезды – словно лампы, которые пытались зажечь, но они не зажигались.
Я нагнулся, прикоснулся к ее холодному уху и впустил в нее шепчущие горячие буквы: Элизабет…
Я тряс ее – но ее длинный рот был сомкнут в безвольной улыбке, а глаза закрыты и покрыты инеем.
– Элизабет! – заплакал я. – И темнота вздрогнула, напряглась.
– Элизабет! – закричал я так, что мои собственные барабанные перепонки почти лопнули, а темнота вспучилась, пошла трещиной, как черный толстый лед.
– Элизабет! – выорал я в ее глаза – и трещина темноты ее глаз лопнула, разлетелась и показалась светлая, как солнце, вода.
Глаза Лизы приоткрылись, она посмотрела на меня.
– Элизабет, – бормотал я, растирая ее снегом, – очнись, отзовись, отзовись…
– Да, я слышу тебя… – слабо сказала она и растянула свои губы в длинной улыбке, – ты звал…
– Слышишь? Слышишь?! – ликовал я, поднимая ее и прижимая к себе. – Мы спасемся… слышишь, мы спасемся… я знаю, я понял, как! Слышишь, не надо умирать, вот так сейчас, вот именно сейчас – не надо! Я не хочу смиряться, не хочу себя и тебя убивать!!! – тер я ее снегом. – Помнишь про человека на кресте, помнишь? Ну, вспомни, это ж как книжка в школе, это же все помнят… он ведь за одну секунду успел спастись… секунда важна, секунда… Понимаешь? Живи, живи, даже секунда важна! Жизнь снова вернулась – слышишь, видишь, она вернулась? Разбойник за секунду до смерти успел… Он успел, успел, и мы успеем…
Внезапно я почувствовал, что мороз возвращается и что нам вновь очень холодно, очень…
– Нет, нет, Господи, нет, не дай вот так, не дай, должна же быть и у меня эта секунда, эта секундочка, прости, прости, прости, дай же мне и ей, Господи… раз и-и, ну что тебе стоит… Что же делать… Я люблю тебя! – кричал я Лизе, словно в пропасть, и эхо неразборчиво отзывалось… Я люблю тебя, я люблю тебя, ребеночек мой, – говорил я, припадая к ее животу и хватая его губами, – я люблю тебя, – оборачивался я в темноту, не понимая, где под ногами озеро, а где небо над головой и кричал, надрывая горло, во все четыре черные стороны:
– Не дай умереть за секунду до смерти, не надо за секунду, не дай же, не дай, ну пожалуйста, нет, не хочу, дай же еще мне поверить за эту секунду, потому что я не хочу умирать, не поверив, нет, не хочу, не поверив, нет…
Лопнул звук. Тишина.
И в этой тишине отрезок времени, который можно перешагнуть в два коротких счета: раз, и!.. – отрезок, который давно уже готовился стать для застывших посреди озера мужчины и женщины последним в их жизни, – он начал вдруг растягиваться. Он растягивался, как слюдяная нить, как нагретое каучуковое полотно. Он расширялся одновременно во все стороны, вверх и вниз, влево и вправо, множился, делился, рос, вился, тихо шептал и ласково плакал, едва слышно смеялся и спокойно, как мать, молчал. И двое, еще не понимая, что происходит, но уже очутившись в середине этой бесконечно растягивающейся секунды, упали в нее, как в плетеный гамак, качались, закрывая и открывая глаза, с удивлением рассматривая небо, которое быстро покрывалось хрустальными фонарями звезд, сильно светлело, словно солнце переставало гаснуть – и, наконец, все остановилось.
Оба они, мужчина и женщина, медленно посмотрели вокруг себя. Они стояли на льду, одетые в меха, шевелились и дышали – а пейзаж вокруг них вместе с воздухом замер – так, словно кто-то огромный и невидимый нажал на кнопку «пауза» вселенского проигрывателя по имени мир. И мир не шевелился – даже снежинки, сдуваемые ветром с поверхности ледяного Байкала, замерли в прозрачном остекленевшем воздухе.
Спустя две или три минуты – потому что здесь, в их секунде время существовало точно так же, как и за ее пределами – где-то вдалеке, там, за прозрачными горами, к которым они, словно Магометы, шли и которые от них все время отодвигались – там, за этими похожими на седые головы волшебников вершинами, послышался шелест, тихий звук движения какой-то огромной, совсем незнакомой и не слышимой никогда ими исполинской силы. И оба они тут же стали утрачивать свое «я», свое цивилизованное и пугливое «я», и начали прислушиваться в них только две их души, его и ее – и они стали внимать тому, что было за горизонтом и шло сейчас к ним. Они улавливали этот шелест и понимали – что это. Это был шум совсем другой жизни, ими забытый, но которой их предки когда-то жили и которую они теперь, слыша – вспоминали. Раньше они думали, что были строителями пирамид – а между тем они оказались двумя глиняными песчинками, прижавшимися друг к другу на одной из ступеней той действительно великой пирамиды, шум которой они сейчас слышали. И эта подлинная жизнь, гул которой нарастал – двигалась к ним.