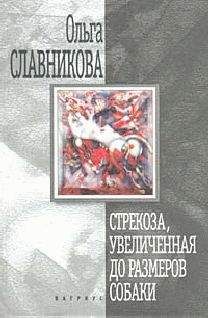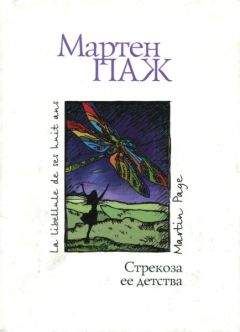Это был Рябков, совершенно пьяный от последней кружки разбавленного кваса, выпитой на торговом углу у самого поворота во двор Катерины Ивановны, куда он вступил, точно актер на сцену, чувствуя искусственность каждого своего короткого шажка. У знакомого подъезда дрожащий воздух был странно студенист, заспанная особа, сидевшая на скамейке возле неуклюжей, как сундук, залитой солнцем детской коляски, проводила гостя подозрительным взглядом, и когда Сергей Сергеич поднялся по крутым, точно полки, ступеням на второй этаж, ему почудилось, что наверху, на лестнице, тоже кто-то есть. Катерина Ивановна сперва приняла его на слух за старика из двенадцатой квартиры и слишком поздно разглядела знакомую шевелюру и бороду, как бы поредевшую волосом от толщины раздавшихся щек. Она привстала, качнувшись на затекших ногах, и хотела окликнуть Сергея Сергеича, но тот, для чего-то ступая на цыпочках, уже увернулся в раскрытую квартиру.
То, что дверь под нужным номером оказалась приотворена на один таинственный сантиметр, Рябков воспринял как приглашение войти без шума: прежний опыт свиданий на чужих территориях, когда не следовало выдавать свое присутствие родителям или соседям по коммуналке, содержал подобные случаи, но теперь, мгновенно представив, от кого ему следует таиться, он почувствовал в коленях противную тошноту. В узком голом коридорчике сверху свисал угрожающий лицу Рябкова почернелый светильник, внизу, под ногами, валялось много разбитой, носатой, морщинистой обуви: из-за нее казалось, что в квартире у Катерины Ивановны собралось не меньше десяти гостей, а между тем в ушах Сергей Сергеича стояла мертвая тишина. Напротив входной двери наклонное зеркало в деревянной раме, местами истертое до дна, как бывает истерта до досок ледяная детская горка, отражало только неуверенные движения лишней мужской фигуры, искажая их каким-то толстым стеклянистым наплывом, и роза светилась там неясным холодным пятном. Рябков понимал, что если он сейчас не сдвинется с места, то так и останется стоять в этой нежилой прихожей, застарело пахнущей лекарством; он попытался прокашляться, издал пересохшим горлом звук, похожий на собачий лай, и, ощущая в теле зыбкую зеркальную волну, проплыл над обувью в желтую комнату.
Призрак старухи в могильных лохмотьях поднялся ему навстречу и угрожающе занес костлявую руку в распавшемся рукаве. Сергей Сергеич попятился, чувствуя спиной пустоту: только тонкая, вставшая дыбом рубаха отделяла его от неведомой, зовущей к падению пропасти. За темной против света фигурой покойницы тоже стояла перевернутая бездна: глубокие борозды на мебели и сорванные клочья паутины, висевшие подобно летучим мышам, показывали, что жители квартиры обитают на потолке,– и то, что происходило сейчас с Рябковым, разворачивалось на каком-то крошечном острове порушенной тверди, словно бы в падающем самолете. Покойница неуклонно приближалась, двигая ноги рывками, точно зверь на задних лапах: Сергей Сергеич ясно видел ее передние зубы, большие, как ногти, белесое пятно на лоскуте подгнившей щеки. Он понимал, что вот так и сбывается самое страшное, так и приходит к человеку сумма всех его житейских грехов. Последними остатками сознания вцепившись в остатки реальности, представленной кастрюлями и знакомой хозяйственной сумкой, Сергей Сергеич трясущейся рукой полез к себе в мешок и вытащил сперва тяжелую бутылку, которую поставил на пол, только теперь увидав такую же точно на далеком, как спасение, накрытом столе. Полегчавший мешочек сделался необычайно увертлив, рука не попадала и скользила в боковой карман с какой-то мусорной мелочью; наконец, ухватив двузубец через складки, будто свежепойманную рыбину, Сергей Сергеич отряхнул с него пустую капроновую шкурку, норовившую зацепиться, и его едва не вырвало, когда он заметил, что держит вилку, будто собирается подцепить с тарелки кусок еды.
Между тем нога покойницы, обутая точно в такую же тусклую туфлю, что во множестве валялись вокруг, подмяла оброненную розу, раздавив растрепанную белую головку. Отступив еще на один ритмический шаг, Сергей Сергеич, будто в танце, сделал шаг вперед и выбросил зажимавший оружие потный кулак. Тотчас его охватили жуткая слабость и земляной, сырой, сладковатый запах картофелехранилища, что исходил от тела покойной, шел из ее разинутого, скользкой плесенью обметанного рта. Безвольная рука, взятая в костяной зажим, заворачивала не туда, набирая чужой, кривой, ломающей силы, потом последовал удар, и Сергей Сергеич почувствовал, что кожа его вместе с нежным атласным жирком ходит по ребрам, будто ткань по стиральной доске. Вилка сбрякала на пол, чистая, едва окрашенная розовым соком, точно ею брали клубнику. Рябков, задыхаясь, зажал ладонью жгучую боль, тупо отдававшуюся в ногах и в голове, ощутил растопыренными пальцами, как расплывается теплая клякса; кровь, вытекая из набухающей боли, сама не болела и была точно посторонняя жидкость, ладонь, окрашенная ею в рыжий цвет луковой шелухи, тоже не болела от крови, но была как чужая. Боком, подчиняясь крену падающего пространства, Сергей Сергеич вывалился в коридорчик, уткнулся лицом в колючее, словно опилки, оборвавшееся с вешалки пальто, едва не захлопнул собственным весом наружную дверь, но та, покачавшись, все же выбросила его на лестницу. Скатившись, будто с горки, по перилам и по стене, Рябков оказался на улице: там его охватила мягкая, печная, душная жара, особа, что поднялась навстречу ему с перекошенной скамейки, была одета в пронзительно-синее платье, и Рябков, делая вид, что ничего не случилось, поминутно теряя и снова улавливая собственное сознание, словно нитку знакомого запаха в уплывающем воздухе, потащился к трамвайной остановке.
Катерина Ивановна услыхала сдавленный крик и, вскочив со ступеньки, где сидела на подстеленной свежей газете из собственного ящика, увидала, как Сергей Сергеич кубарем выкатился из квартиры: белая рубаха у него на боку набухла красным, жирный от крови лоскут был цвета говяжьей печени, седина на макушке торчала хохолком. Что-то помешало Катерине Ивановне закричать в ответ: медленно спускаясь и стараясь не наступить на четыре мелкие темные капли, она поняла, что все, происходившее с ней, наконец-то закончилось. Чтобы вернуться в прежнюю жизнь, ей пришлось бы как-то улаживать случившееся, а она не хотела и не могла. Во дворе соседи и незнакомые люди, имевшие все-таки что-то неуловимо знакомое в местных добротных лицах, покрытых розовым загаром и белой сеточкой морщин, стояли и смотрели так, что Катерина Ивановна сразу догадалась, куда ушел окровавленный Рябков. Никто не поздоровался с ней, только приходящий мальчик-музыкант, проскользивший, как корабль на горизонте, за спинами толпы, тихо ей оттуда поклонился. Катерина Ивановна подумала, что надо вызвать из автомата милицию и «скорую помощь», но тут же подумала другое: оставленный ею дом, заросший, словно гигантской крапивой, черными тополями, не мог иметь по стандартной планировке смежных однокомнатных квартир, и квартиры эти не могли смыкаться всеми стенами сразу, не будучи в действительности одним помещением, где происходила максимум одна история. Она прощально глянула на балкон, который считала своим: там, утонув в распавшейся, до тапок провисшей газете, топтался бледный Михаил Израилевич и делал Катерине Ивановне круглые знаки толстеньким пальцем, будто накручивал номер, одновременно округляя перепуганные старые глаза.
Катерина Ивановна пошла по тротуару. Тут и там в густой и теплой пыли валялись, то орлом, то решкой, нагретые монетки: она подобрала пятнашку; тяжелый, как галька, полтинник; какую-то иностранную денежку, очень легкую, с полированным профилем; новенькую ликующую двушку; каменный черный пятак. Но все автоматы по пути, обязанные вызывать милицию и врачей вообще безо всяких монет, не давали гудков, только шипели и нашептывали в ухо что-то неразборчивое или стояли без трубок, точно старые умывальники. Между тем вокруг происходили изменения: пространство за спиной у Катерины Ивановны смыкалось, не сохраняя ни малейшего следа ее недавнего присутствия; небо над головой стало горячим и фиолетовым, будто навороченный лопатами свежий асфальт. Вывернув наугад на хлынувший ветром, точно прорвавший плотину проспект, Катерина Ивановна увидала под обдираемой, будто эскимо, афишной тумбой скорченную фигурку с черным кустиком знакомой бороды. Около нее суетились, будто чайки, растрепанные медики, тут же стояла, кое-как развернувшись и растворив воротца, «скорая помощь». Катерина Ивановна поняла, что звонить никуда не нужно, что теперь она окончательно свободна. Последней, кого она увидала, прежде чем исчезнуть навсегда, была Маргарита: в свистящем шелковом балахоне, с сединою, торчавшей с висков, будто полуоторванные папиросные бумажки, бывшая подруга выкликала свекровь по имени-отчеству, кружась и глядя на экскаваторными ковшами задранные балконы, точно старуха и в самой деле умела летать.