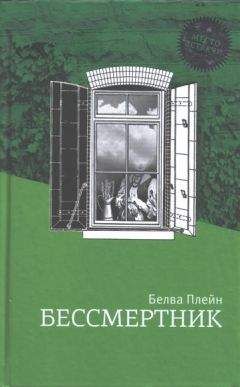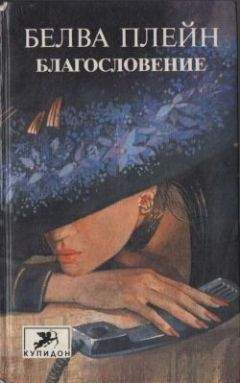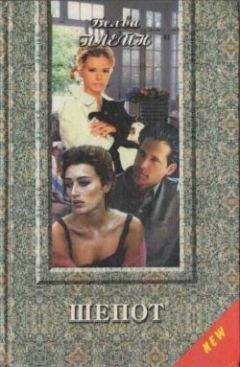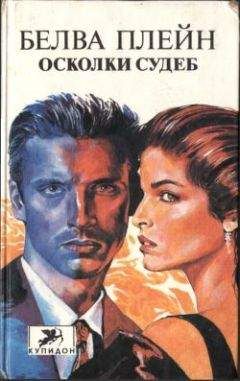Неужели я — та девочка? Не узнаю себя, совсем не узнаю. И все же в сравнении с вечностью я переехала сюда от Руфи, с улицы Хестер, не так уж давно. Я жила в этом доме…
Позабудь, вычеркни. Что толку рассуждать, как сложилось бы, если?.. И незачем размышлять, где сейчас Пол. Бессмысленно. Но — не удержаться. Никак не привыкну к мысли, что мы никогда больше не встретимся. Можем не встретиться. Как если бы он умер.
И никак не привыкну, что умерла Руфь! Я так по ней тоскую, даже не ждала от себя. Руфь была ужасной завистницей, вечно пыталась подколоть, уязвить. Но она всегда была рядом, на нее можно было положиться. «Я о тебе позабочусь», — сказала она в тот, первый, день. Я стояла на пороге с узелком, в тети-Розиной шали, растерянная, беспомощная. Я доверилась Руфи — и не ошиблась.
Да, у Руфи оказался тернистый путь. Одна та ночь чего стоит — после гибели Солли. Все разом разбилось, не только Солли, а вся, вся жизнь вдребезги… Руфь успела понежиться в роскоши совсем недолго. Но успела, увы. Без этих лет среди ковров пережить возвращение к нищете было бы легче. Шелковая испанская шаль, накинутая на крышку кабинетного рояля… В доме на Вашингтон-Хайтс, где Руфь провела последние годы, первый этаж перестроен под магазины. Она жила над прачечной и пивнушкой. Но мы ведь тоже там когда-то жили! В таком убожестве? Нет, с тех времен дом сильно переменился. И я переменилась. Все стало иным.
Дан в Мексике тоже умер. За пятьдесят пять лет мы повидались только дважды. Еще бы разочек!
Все мы спускаемся под гору…
Лора уплетала омлет с беконом. Над самой тарелкой болталась прядь длинных рыжих волос, которые она — если верить Айрис — ежедневно разглаживает утюгом. Лора откинула прядь, взглянула на Анну:
— Я голодна как волк!
— Твоя еда вкусно пахнет.
— И не только пахнет! Неужели ты никогда не пробовала бекон?
— Никогда. А в юности, вскоре, как приехала из Польши, я понюхала бекон на сковородке и чуть не умерла от отвращения.
— Просто тебе вдолбили, что свинина — дурная еда. А ты попробуй и сама реши.
— Я бы, может, и попробовала… Но дедушка…
— Так не говори ему! Разве мужу надо все рассказывать? Надо, да?
— Мне всегда казалось, что надо.
Прости меня, Боже, за эту ложь…
— Ну и расскажи, делов-то! Ведь женщина вправе поступать по-своему, даже если муж не одобряет?
— Объективно — ты права.
Лора на миг задумалась.
— Тогда тебе никакая еда не будет в радость, да, Нана? Настоять на своем можно, но он так огорчится, что тебе и есть не захочется, верно?
Анна улыбнулась:
— Вот ты и ответила на свой вопрос. Даже лучше меня.
Чуткий ребенок. Словно идеально настроенный музыкальный инструмент: я нажимаю на клавишу — она отзывается звуком, которого ждешь, не выше и не ниже. Она ближе, роднее, чем Айрис. Настоящая дочь. Хотя мои отношения с Айрис скорее правило, чем исключение, — теперь-то я могу судить, я выслушала в жизни немало чужих исповедей, и дочерних, и материнских. А как, интересно, ладила бы я со своей мамой, будь она жива?.. Надо поостеречься, нельзя приваживать Лору в ущерб ее близости с Айрис. Бабушки порой слишком неуемны в любви.
— Папа вчера вечером сыграл все партии из «Лебединого озера» и рассказал либретто. Знаешь, он попал именно на эту вещь, когда впервые смотрел балет. В Вене тогда гастролировала Анна Павлова, и он ходил вместе с родителями. Мы все «проработали подробнейшим образом» — и музыку, и сюжет. Ты же знаешь, какой папа дотошный. Все делается «подробнейшим образом». — Лора засмеялась. — Когда я была маленькой, лет восьми, собиралась стать балериной. Тогда я еще верила, что достаточно захотеть — и все сбудется.
— А теперь? Разуверилась?
— Почти. Так мне, во всяком случае, кажется. А может, я по-прежнему маленькая и не могу себя оценить. Сама-то я чувствую себя очень взрослой. Иногда.
— Да, понимаю. А я сегодня увидела в витрине красивое розовое платье и позабыла, что я старуха.
Лора не запротестовала, не воскликнула с лицемерным негодованием: «Ты вовсе не старуха!» Вместо этого она сказала:
— Наверное, ужасно быть старой. Да, Нана?
— Да — если непрерывно думать о старости. А я стараюсь не думать, как мало времени в запасе.
Лора поставила локти на стол, уютно устроила подбородок в ладонях. Они ждали десерта: Анна — кофе, а Лора — торт и вторую порцию мороженого. Отправляясь с нею обедать, Анна никогда заранее не знала, голодовка у нее нынче или жор. Сегодня она явно вознамерилась наесться до отвала.
— Скажи, Нана, — начала Лора очень серьезно, — ты довольна прожитой жизнью?
— Господи! Ну и вопросец! Чересчур трудный для такого чудесного, яркого субботнего дня. Да и не могу я на него ответить, не знаю как.
— Постарайся!
— Не могу. Если ты спрашиваешь: счастлива ли я тем, что имею, ответ будет — да, очень. Я всех вас очень люблю. У меня есть друзья. Я занимаюсь интересными и, смею надеяться, хоть чуть-чуть полезными делами. И позволяю себе некоторые радости: вожу вот внучку на балет. Но если ты спрашиваешь, хотела бы я прожить иную жизнь… Как у Павловой, допустим, или у мадам Кюри… На такой вопрос действительно невозможно ответить.
— Мне иногда так жаль людей, — сказала Лора. Она взяла в рот мороженое и не глотала, ждала, чтобы согрелось. — Папу, например. Я его часто жалею.
— Почему?
— Он, наверное, все время думает о той семье, о Лизл, о мальчике. Только никогда о них не говорит.
Анна промолчала.
— По-моему, — продолжила Лора, — он чувствует, что маме это не понравится.
— Почему? — Анна пожала плечами. Нельзя показывать виду, как это важно.
— Не знаю. Но наверняка не понравится.
Неужели помнит? Смутно, обрывочно, но — помнит? Они были так малы. Слава Богу, беда миновала, дети не пострадали. Кто, кстати, сказал, будто надо растить их в безмятежности и покое? Чтобы ни волны, ни ряби — полный штиль? Это даже неестественно. Как же все-таки узнать, что бродит в их головах, что сохранилось в их памяти? Удивительные, прелестные дети, все четверо. Даже мальчики прелестны, хотя они на такое слово могут и обидеться. А слово самое что ни на есть точное! Джимми — воплощенная доброжелательность и невозмутимость. Стив — человек настроения, замкнутый, порой даже угрюмый, с блистательно острым, живым умом. За него тревожно, и поэтому — втайне — я люблю его больше всех. Странно? Возможно. Джозеф моих пристрастий не разделяет, в Стиве его раздражает все, буквально все. Да и меня, чего уж греха таить, тоже многое коробит. Но и тянет к нему. Такой родной, такой любимый мальчик. Есть еще Филипп — нежданный, нечаянный подарок. И эта девочка. Боже, спаси их! Сохрани и обереги. Неподходящее место для разговоров с Богом — среди гула голосов, звяканья вилок. И все же спаси их нежную плоть от ран, а сердца от разочарований. Без ран и разочарований не прожить, я знаю. И все же сохрани детей и обереги.
— Нам пора, — прервала ее мысли Лора. — Уже дали звонки.
— Да-да, — кивнула Анна, взглянув на часы.
Они вышли в фойе, и толпа медленно повлекла их в зал. Люди оглядывались, засматривались на них: ярко-рыжих, высоких. Старую и молодую.
Искристые, сияющие хрусталем люстры поплыли к потолку. Зал погрузился во тьму. Оркестр заиграл увертюру. И — наконец! — под завораживающие звуки вальса раскрылся занавес, явив зрителям лес принца Зигфрида. Лора восторженно ахнула.
— Это было чудесно! Потрясающе! — Лора мурлыкала от удовольствия. — Нана, тебе такое спасибо! Мне очень, очень понравилось.
Такси притормозило на светофоре. Неприятная, загаженная улица; танцзалы, кабаки, кинотеатры с сомнительным репертуаром. На афише порноклуба намалевано: «Девочки-девицы: мисс Заря Ля-Рю и мисс Апрель Ля-Фоллет». «Жгучие страсти, испепеляющая любовь», — зазывает реклама фильма. Напрасно Анна надеется, что Лора отвернется и не заметит. Она конечно же не сводит глаз с огромных, в полстены, фотографий. Ничего жгучего и испепеляющего. Холодный голый секс, механический, как движение поршневого насоса. Я никого не сужу, не обличаю — Боже упаси! Но нет в этом живого, искреннего чувства, нежности нет, тепла. А любовь-то — самое живое на всем белом свете. Интересно, что заставляет актрис сниматься в таких фильмах? Что толкает мисс Зарю Ля-Рю на подмостки порноклуба? Что их гонит или влечет? И вдруг, без всякой видимой связи, ей представилась мисс Мери Торн в строгой блузке и прямой юбке. Она стояла рядом, совсем близко и протягивала ей томик «Гайаваты».
Такси наконец двинулось в направлении Гранд-Централ. Наверное, непристойные афишки оставили Лору в недоумении, и она, Анна, должна что-то пояснить с высоты своего возраста и опыта. До чего же противно! И почему, по какому праву эта грязь выливается на чистые, неокрепшие души? Но с другой стороны, растить Лору на прекрасных сказках вроде «Лебединого озера» тоже невозможно. Н-да, что же ей все-таки сказать? Я могу говорить о чем угодно, но не об этом. Все во мне протестует, восстает. И так было всегда, еще смолоду.