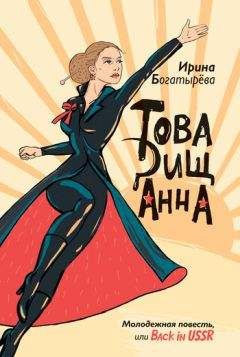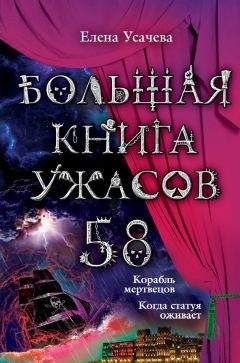— Чего? — тот опустил одеяло.
— Вот. Не ощущаешь. А на самом деле ты — раб.
— Это тебя твои коммунисты просветили?
— Не коммунисты они.
— Ну да, конечно, — Дрон коротко хохотнул. Вдруг, бросив одеяло, он яростно кинулся на проходившего мимо кота, сцапал его в охапку и принялся тискать, приговаривая: — Рабству — бой! Свободу пролетариату! Ух ты скотина, буржуй ты в шубе! — Он с остервенением чесал живот оцепеневшему Борису. — Валек, давай его раскулачивать! Мы имеем дело с явной социальной дискриминацией. Некоторым тварям в этом доме живется лучше, чем остальным: ни фига не работают, а жрут. Такого не должно быть в развитом социалистическом обществе. Я испытываю все комплексы угнетенного класса. Держись, Борис, сейчас раскулачивать будем!
Он подбросил кота вверх и поймал под мышки. Замученное животное только слабо перебирало задними лапами, пытаясь дотянуться когтями до рук.
— Придуривайся, придуривайся. — Валька спустил ноги с кровати и стал шарить под нею, выискивая джинсы. — Вот все ведь человек понимает, а ведет себя, как шут. И чего ты, Андрюха, такой?
— Тебя не убеждает решительность моих порывов? Ты не веришь в мою сознательность? Нет? Да? Что же делать? О, женщина! — Дрон ринулся к входящей Марине с мокрым полотенцем на волосах. — Долой дискриминацию и кухонное рабство! Даешь поголовную грамотность среди женского населения! Марина, сейчас мы устроим тебе ликбез. Ты у нас не только про прецессию узнаешь, ты еще много умных слов выучишь.
Марина сидела на кровати и смеялась. С мокрых волос на футболку стекала вода. Она уже успела обежать наш этаж и рассказать о своем открытии. Про прецессию никто из нас не знал, и от этого она чувствовала себя гордой, и от этого Дрон в ее глазах приобрел статус жреца тайного, древнего, чудом сохранившегося до наших дней знания, передававшегося в непонятных манускриптах редким избранным среди смертных. На избранность Марина не претендовала. Она была счастлива уже тем, что наткнулась на этот манускрипт, оставшийся от ушедшей цивилизации, и почти не верила, что до этого люди сами могли додуматься. Им, по ее убеждению, ничего подобного было не надо. Если бы Дрон сказал ей, что в Древней Месопотамии с неба спустился посланник бога Солнца с разноцветными перьями, торчащими из ноздрей, с глазами орла и телом цвета глины, в огненной колеснице, запряженной семью красными быками, и передал знание о прецессии лично первому жрецу, и с тех пор это знание охраняется и наследуется, — она, может, и не поверила бы, но это уже не вызвало б в ней внутреннего неприятия.
Вдохновленная, она долго потом еще рассматривала карту звездного неба, листала книги, выискивала картинки и схемы, но уже не запоминала ничего. Ей было достаточно, что все это, по ее твердому убеждению, знает Дрон. Новое чувство родилось в ней — причастности к чему-то глобальному через него, и своей принадлежностью к нему она с того дня стала дорожить — неожиданно для себя самой.
А Валькина жизнь изменилась. Мы не знали ни о чем, но догадывались. Его будто подхватило и увлекло бурным водоворотом; выбраться из него не было сил, оставалось только ждать, когда стихия сама вышвырнет на камни. Он сильно осунулся и похудел, приходил в общагу рано утром, спал на лекциях, если вообще являлся в универ, но глаза его горели, он жил в эйфории. Он по-прежнему оставался молчалив и замкнут, но Дрону случалось теперь вести с ним неожиданные социалистические разговоры, содержание которых он пересказывал потом на кухне. Мы надивиться не могли на нашего Вальку.
На собрания ячейки он теперь сильно опаздывал. Иногда появлялся в подвале под самый конец собрания, только чтобы встретить Анну, или ждал ее уже на «Пролетарской». Он стал много работать, с радостью записывался на третью смену. Ему казалось теперь, что ему нужны деньги, много денег; ему нравилось, как, приходя поздно вечером к Анне, достает он из пакета свежие лаваши, пиццу, ароматные восточные лепешки из их пекарни, как ужинают потом, разговаривая полушепотом, выскальзывая из комнаты, только чтобы принести вскипевший чайник и кружки. Нравилось выражение признательности и теплой благодарности в глазах Анны. Оказалось, что она худая, потому что почти ничего не ест — некогда.
Она не говорила ничего против того, что он стал халатно относиться к собраниям. Теперь она не воспринимала Вальку как того, кто пытается поколебать ее в убеждениях; он стал чем-то вроде надежного тыла, дающего ей возможность с головой уйти в любимое дело. Только когда Валька стал отмазываться от митинга на седьмое ноября, она поджала губы и отвернулась.
— Твоя несознательность ставит под сомнения наши с тобой отношения, — выдавила потом она так, что Валька похолодел.
— Солнце, ну зачем это нужно? — пролепетал он, но Анна обернулась, заговорила, как бывало, глухим от сдерживаемого гнева голосом:
— Люди историю свою забывают, а этого нельзя допускать. Как бы кто ни относился к этому, а помнить надо. А они — что они сделали? Заменили праздник каким-то суррогатом, без смысла, без понимания, без исторической основы. Саму память стараются у нас стереть!
Валька долго ее успокаивал. Сошлись на том, что он устроит промывку мозгов у себя на работе и в общаге, рассказав, что за день такой, и тем будет больше пользы делу, чем на митинге. Анна поколебалась, но все же поверила ему. Она вообще признавала теперь в Вальке некую житейскую мудрость, опытность, случалось даже, что задавала ему вопросы, будто проверяя на нем жизнеспособность социалистических идей. Не то чтобы она в них сомневалась. Нет, она жила и дышала ими, Валька убедился в этом, попав к ней в дом, окунувшись с головой в ее мир. Ему даже непонятно было теперь, что же задело ее в его словах в тот решающий вечер в метро; теперь, когда ревность отступила, он ясно видел, что Анна никогда не таскалась в подвал ради Сергея Геннадьевича, что она всем своим духом была привязана к такой непонятной для Вальки жизни, что она находила в той эпохе все, чего не хватало ей в этой.
Ее узкая комната-пенал, аскетичная, бедная, была словно бы тоже из того времени, когда люди жили идеей и не имели, кроме идеи, больше ничего. Высокий, громоздкий платяной шкаф стоял там сразу при входе, открываясь к двери, только узкий проход оставался слева; шкаф отделял весь мир от мирка Анны. Сразу за ним была ее односпальная девичья кровать, на которой они умудрялись уместиться вдвоем. Большой письменный стол с тремя выдвижными ящиками стоял возле окна, большую часть стола занимал компьютер, еще лежало толстое стекло, под него Анна складывала листочки с заметками, цитатами из книг, газетные вырезки. На стенах висели книжные полки с заедающими стеклами. Все книги у Анны были исторические, ни одной художественной Валька не нашел. Даже духами, которыми чуть заметно, но постоянно пахло от Анны, не пахло в ее доме. Никаких картин, фотографий на стенах, цветов на окнах, коврика на полу, даже штор, хоть чего-то, что создавало бы чувство тепла и уюта, не было в этой комнате. Но для Вальки все это было настолько связано с Анной, настолько было ею самой, что он не заметил сам, как стал называть про себя эту неуютную комнату домом.
Он долго не знал, с кем живет Анна, кого так трепетно боится разбудить. Оставляя Вальку на ночь, она непременно выпихивала его рано утром, в потемках, чуть-чуть после пяти. «Иди, иди, у себя поспишь», — говорила она, помогая ему попасть в рукава куртки, пока он шаркал ногами, пытаясь наткнуться на ботинки. Потом открывала дверь и выталкивала его, сонного, еще теплого после постели, еще пахнущего ею, Анной, на лестничную площадку. У метро он был к его открытию и продолжал спать уже под землей. Он ни разу не попрекнул Анну, он понимал, что так надо.
Но однажды они проспали. Валька понял это, когда услышал, как кто-то за стеной громко двигал мебель, шаркал ногами. Комнату заливал мутный рассвет. Они с Анной лежали, обнявшись под одеялом, уже просыпаясь, но то и дело проваливались в теплую томную дрему, когда шарканье и тяжелое недовольное движение раздалось в самой комнате.
— Очки же куда могли подеваться… что за чертовщина, очки — не иголка, — громко ворчала грузная старуха, перебирая руками вещи на столе Анны, потом отодвинула стул так, что с него полетела одежда, склонилась и стала рыскать внизу, под столом, у батареи. — Ни на что не похоже, уже мужиков стала водить, посмотрела бы, посмотрела бы мать… а-а-а, что делается, — с той же ворчливой интонацией, не прекращая поисков, говорила она.
— Потрудись выйти и закрыть за собой дверь, — сказала Анна.
— Вот как заговорила, стервозина. Вот как, значит. — Старуха яростно выдвигала ящики, дергала стеклянные дверцы книжных полок. — Не драли тебя, вот теперь выкобениваешься.
— Это просто неприлично — входить в комнату без стука. Люди спят!