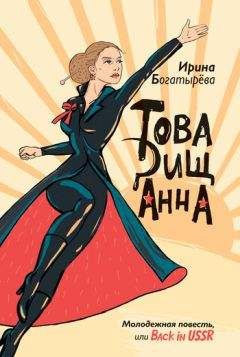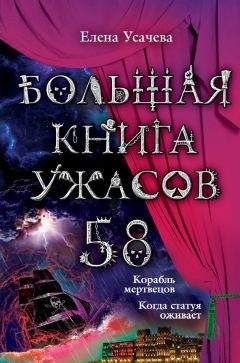— Что, это так заметно, да? — спросила Анна глухо, как из-под земли.
— Откуда я знаю, — ответил Валька. — Нет вроде.
— Но вот ты же месяц его не знаешь, а догадался. Зачем ему все это, понял…
— Я-то че… — хмыкнул он. Он не понял ее, но ему было ее жалко. В тупой меланхолии подумал, что вот сейчас она сядет в поезд и они не увидятся больше никогда. Но ничего сделать не захотелось. Он чувствовал себя измученным, выжатым до равнодушия. — В этой жизни все так: что ни делай, все равно ничего не изменится. Можно делать, можно не делать — все одно, — высказал он сокровенную свою философию. Анна не ответила. У нее тоже не было сил спорить.
Они сидели и глядели перед собой, как смотрят на медленную реку. Между рельсами и в самом деле бежал грязный водосток, когда гудение в павильоне стихло, стало слышно его живое журчание. Они сидели, словно на берегу подземной реки, у которой не было другого берега.
Из недр подул сильный, холодный ветер. Зашевелись под его порывами волосы, ожили полы плаща. Потянуло шлаком, подземельем и еще жутким, типично метровским запахом. Поезд вылетел из-под земли со свистом и скрежетом, как Вельзевулова карета. Анна вдруг крепко сжала холодной ладонью горячую мягкую Валькину руку и, не сказав ни слова, повлекла его за собой в вагон.
Они ехали так же, как сидели, — не глядя друг на друга, не разжимая рук, не разговаривая. Лицо у Анны было отчаянное и решительное, казалось, она едет мстить кому-то за что-то. А Валька словно выключился из потока жизни, он не думал, ничего не ожидал. Непреодолимая черная сила, которую оба ощущали все время своего знакомства, увлекала их под землю, в грохоте, скрежете и ярких потусторонних огнях.
Такая же сияющая огнями, мерцающая мокрым черным асфальтом ночь была там, где они вылезли из подземелья. Как в первый раз, Валька шел за Анной, не запоминая дороги. Дома, освещенные киоски, прозрачные стекляшки остановок, потушенные витрины, редкие автомобили — все проплывало мимо одним тусклым потоком. Поток этот расступался перед Анной, перед ее решимостью, и Валька шел следом, как корабль на буксире, доверившись увлекавшей его вперед силе.
Потом была ослепительно яркая коробка лифта, черная лестничная клетка, и Анна звенела ключами, на ощупь отпирая дверь. Снова тьма, но уже серая, разреженная светом из окон в комнатах — они угадывались за поворотами коридора. Шепот Анны, близкий, быстрый: «Тихо. Разуйся. Сюда иди». Звуки тем громче, чем отчаяннее пытаются их скрыть. Шорохи, шорохи, шорохи.
Она открыла дверь и, втянув Вальку за собой, прикрыла за спиной. Еще два шага — и они посреди комнаты, узкой и длинной комнаты-пенала. Штор на окнах не было; мутно-серое, в тучах московское небо само по себе излучало разреженный свет; он заливал комнату, отражался на лакированных боках старой мебели. На фоне черно-светящегося окна они вдвоем застыли графическим абрисом. И вдруг слились, будто их друг на друга толкнули. Снова только шорохи, дыхание, тупое, монотонное поскрипывание половицы под ногой, испуганный визг разъехавшейся молнии, мягкий шелест упавшей мимо стула одежды. Потом, глотнув воздуха, словно выныривая, Анна сказала неожиданно в голос: «Подожди. Сюда надо», — и потянула за собой, вниз.
— Прецессия, — благоговейно, как имя нового бога, говорила Марина. — Прецессия. Блин, это же улет, подумай только! Нет, ты подумай!
С одухотворенным лицом, в одних трусах, она сидела по-турецки на кровати и листала книгу. Копна медно-красных волос стояла на ней дыбом, как пакля. Книга, которую она стащила с полки Дрона, называлась «Наша планета Земля» и привлекла ее зодиакальным кругом на обложке. Думала — астрология. Оказалось, астрономия.
— Что же это получается? — говорила Марина, пребывая в состоянии пошатнувшегося мироустройства. — Ничего, совсем ничего не может быть постоянным? А? Совсем-совсем? Раз вот даже — звезды. Ну ты слышишь меня?
— М-м-м? — промычал Дрон и попытался перевернуться в постели.
— Ты спишь, что ли?
— Мнеа. Ничто не постоянно… — выдавил он, накрываясь одеялом с головой.
— Но ведь — звезды. Ведь даже — звезды! Смотри чего: раз в две тысячи лет полярной становится другая звезда. Во время древних греков была Кохаб, до этого — Тубан, потом Киносура, потом только наша… Вот тебе и небесный кол… — В ее устах названия звезд звучали, как имена языческих богов, звучно и жутко. Она сама от них балдела.
— Это называется прецессия, — уже внятно проговорил Дрон.
— Прецессия. Вот и я говорю.
Марина вскочила на кровати и, утвердившись ногами на жестком каркасе, стала разглядывать карту звездного неба, приклепанную к боковине книжной полки. Водя пальчиком, она отыскивала звезды, к которым раньше, баснословно давно, был привязан на Земле север. Лицо ее было напряжено. Потом, перегнувшись, она посмотрела со священным трепетом на корешки других старых, советских научно-популярных книг, стоявших у Дрона без дела, как память о детском, несбывшемся увлечении астрономией.
— Ну и чего ты встала, как колосс Родосский? — сказал Дрон, схватив ее за ноги. — Иди сюда.
Он подбил ее под коленку, и Марина с визгом повалилась на кровать. Заскрипела сетка, но после непродолжительной борьбы Марина выпуталась, села на Дрона верхом и принялась метелить его подушкой по лицу:
— Дурак какой, ничего ты не понимаешь! Ведь раз совсем ничего постоянного нет — то ничего нет! Раз даже звезды сменяются, верить ничему нельзя!
— Да чего ты пристала! В школе не проходили это, что ли? — Дрону удалось схватить ее за руку и остановить мордобой.
— Ничего мы не проходили!
— Оно и видно. Школа у вас была для дебилов, да?
— Сам ты дебил. Теперь не проходят астрономию. И как только это узнали все, а? Ведь Полярная — она просто Полярная, а оказывается — не всегда? — Она смотрела на Дрона жалко и выжидательно, будто он мог сейчас отменить это неожиданное открытие, сказать, что все туфта и никакой прецессии нет, и вернуть ее пошатнувшийся мир на место.
— Они по кругу сменяются, — сказал Дрон. — Это не непостоянство, это цикл.
— То есть потом все опять то же будет? — с ужасом спросила Марина.
— Ну, не совсем. Но в целом — да, — Дрон стал перечислять звезды по памяти, закатив глаза, будто читал стих наизусть: — Альфа Малой Медведицы, три звезды созвездия Цефея, Денеб, Сандр, Вега…
— А когда?
— Ну, когда… когда… через тринадцать миллионов лет. — Дрон ерничал, но Марина глядела серьезно. Ей эта цифра не говорила ни о чем. Ему стало смешно. — И про свой любимый зодиак ты ничего не знаешь? — добавил он масла в огонь.
— Чего не знаю?
— Ну, что теперь там должно быть не двенадцать созвездий, а тринадцать.
— Как — тринадцать? — Глаза у Марины были как блюдца.
— Очень просто. После Скорпиона что идет?
— Стрелец.
— А вот и ни фига подобного! После Скорпиона Солнце заходит в созвездие Змееносца, а потом уже в Стрельца. Змееносец теперь еще в зодиаке!
Он ожидал, что Марина сейчас вскочит и снова станет проверять все по карте, но она сидела совсем потерянная, несчастная, мягкие грудки свисали вниз, как сталактиты.
— Золото, не тупи, — он постучал ее по голове. — Земля же движется. И все движется. Или вы и этого не проходили?
— Движется, ага, — сказала Марина потухше.
Дрон смял ее, потянулся губами к лицу, но она вся была какая-то обмякшая, как тряпичная. Тут соседняя кровать заскрипела.
— Ой, Валька, — сказала Марина с интонацией, будто нашла мухомор. — А мы думали, тебя нет. Ты во сколько пришел?
Сонная мохнатая голова, появившись из-под одеяла, не ответила и скрылась снова. Марина поднялась, натянула рыжую футболку, взяла полотенце и пошлепала в душ. Дрон потянулся, поднялся тоже, нашел на столе среди объедков коробку сока, выжал в себя остатки. Борька, спавший на стуле, спрыгнул и стал тереться о его ногу.
— Ну ты, чувак, даешь, — с уважением в голосе сказал Дрон. — Можно тебя поздравить, да?
— М-гу, — прогундосил Валька.
Дрон нарочито громко и грубо заржал.
— Вставай, вставай, выспался уже, время полдвенадцатого. Хорошо — выходной. У, дружище, завалишь сессию, попрут тебя из универа. Помяни мое слово.
— Угу, — отозвался Валька.
Дрон хмыкнул и стал одеваться.
— А, да, ты Жорин мобильник не видел? Он обыскался вчера. Посеял где-нибудь, а говорит, что украли.
— Не видел.
— Да вставай же ты, все равно не дадим спать!
Он стащил с него одеяло и хотел было со всего размаху шарахнуть по лежащему телу, как вдруг Валька открыл глаза и сказал:
— Дрон, а ты ощущаешь себя рабом государственной системы?
— Чего? — тот опустил одеяло.
— Вот. Не ощущаешь. А на самом деле ты — раб.
— Это тебя твои коммунисты просветили?