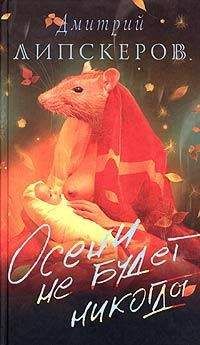Мила в первый раз шла к Вове Рыбакову и думала, что юноша наверняка голоден, а потому, купив в гастрономе шесть «полтавских» котлет, двести граммов колбасы «докторской», свежий батон и коробочку грузинского чая, нажимала на кнопку дверного звонка с небольшим чувством гордости за совершаемый добрый поступок.
Уже через несколько минут ей пришлось испытать конфуз в полной мере, в какой это возможно. Со своей снедью она выглядела в квартире Рыбакова, как нищенка, набравшая отходов из помойки. В жизни премилая пышечка, она теперь еще больше пылала щечками, совершенно соответствуя своему имени.
— Проходите, Мила Владис…
— Просто Мила, — зачем-то предложила она, почувствовав запах зернового кофе «Арабика», и добавила: — Естественно, не в школе…
Он помог ей раздеться и провел в комнату, в которой жил.
От созерцания роскоши Мила совсем разомлела, сидела, почти полностью погруженная в мягкое кресло, слушала с новой фирменной вертушки новую группу «Битлз» и совершенно ни о чем не думала. Ей было хорошо, а в жизни так мало хорошего, что не стоит в этот редкостный момент о чем-то думать.
Потом она пила миндальный ликер «Амаретто», закусывая его сервелатом и солененькими орешками, пьянела от окружающего ее локального пространства и смотрела в глаза Вовы Рыбакова, которые также открыто смотрели в ее наивные очи.
— Давайте, я вас нарисую, Мила, — неожиданно предложил Вова.
— А ты умеешь? — задала глупый вопрос Мила и, не дожидаясь ответа, скосившись на картины вдоль стен, согласилась: — Нарисуй…
Он вышел на кухню, где выпил две стопки водки, а она пока поправляла кофточку и юбочку из крепдешина, за чем Вова ее и застал.
— Не надо, — попросил он.
— Чего не надо? — не поняла Мила и широко улыбнулась, очень соблазнительная сейчас от выпитого «Амаретто».
— Я вас буду рисовать голой.
Она хотела было возмутиться, тотчас оставить эту буржуазную квартиру, хлопнув дверью на прощание, но вдруг подумала: почему бы и нет, он — художник, а ее еще никто не рисовал. А, будь что будет!..
— Хорошо, — коротко согласилась она. — Только отвернись.
Он отвернулся, и пока она раздевалась, пряча совковое нижнее белье под импортной кофточкой, глядел в окно и думал о мужике, потерявшем мешок, в котором уже совсем другие краски. Правда, стопка серебряная осталась…
— Можно, — услышал за спиной.
Она была совершенно вся беленькая, сверху донизу, словно присыпанная мукой, даже под пупком все сливалось зимой, лишь немного прозрачного розового цвета на груди, да родинка над ключицей. Он обошел ее кругом и осмотрел восторженно.
— Да вы красавица! — сказал, взял кисть, окунул ее в акварель и стал в бешеном темпе заполнять ватманский лист. Через пять минут Вова отбросил кисть в сторону и продолжил работу пальцами, ребрами ладоней, так что весь вымазался радугой… На секунду отошел, чтобы хлебнуть «Амаретто» из горлышка, вернулся к мольберту и еще долго тыкал в ватманский лист, проворачивая, большим пальцем.
Миле было интересно наблюдать за тем, как работает ее подопечный. Поначалу она немного стеснялась, прикрывая низ живота ладошкой, но затем, уверившись, что Вова весь в «холсте», расслабилась и только диву давалась, как блестят глаза юноши, какой они свет источают, как он мечется то к одной стене, то к другой, оглядывая ее снизу доверху — не как сексуальный объект, а точным глазом геометра, словно какой-нибудь куб рисовал.
А потом он закончил и сел в кресло, тяжело дыша.
— Я могу одеться? — поинтересовалась Мила, а когда он ответил «нет», пожала пухленькими плечиками, думая, что Рыбаков отдыхает, что последует продолжение. Наклонилась в перерыве за орешками и, в своей простоте, открыла Вове всю тайную красу. Так, розе совершенно все равно, кто любуется ею, когда она открывается на рассвете. Она открывается только утру.
— Ах, — тихонько вскрикнул Вова. Он смотрел на ямочки чуть выше белых ягодиц и различал еле заметный след от резинки трусиков… Ему непременно захотелось стать утром.
— Я закончил.
— Можно посмотреть? — спросила Мила, нажимая на все кнопки кофейного автомата.
— Можно.
Наконец, автомат тихо загудел и исторг густой пахучий кофе.
Она взяла двумя пальчиками чашечку и пошла по ворсистому ковру к Вовиной работе. Посмотрела из-за спины, касаясь грудью его плеча.
Вова увидел в зеркале отражение лица учительницы с круглыми от удивления глазами.
— А как же?.. — Мила поперхнулась. — Зачем же… Это же портрет!
— Вам нравится? — спросил он тихо, не выдержал, обернулся и уткнулся носом прямо в ее мягкую грудь, в самую десятку, в розовый цвет. Он пытался слизнуть его, словно розовый крем с мороженного в вафельном стаканчике, а она все спрашивала, зачем он ее раздел, если портрет… Вова, все более распаляясь, отвечал:
— Вся ваша нагота отражается на вашем лице!
Она теряла над собой контроль и от его шустрого языка, исследующего ее грудь, и от того, что он говорит так красиво, и что портрет такой необычный и волнующий…
Я делаю что-то предосудительное, думала Мила, где-то далеко в своей голове, там, где у всех женщин туман. Она опускалась спиной на ковер, слушаясь легкого нажима его измалеванных в краске рук, а он вдыхал запах ее тела, и мысль его так же сокрылась в еще более густом тумане девственности.
Так ею никогда не пользовались! Выпили и выцеловали до дна. Все тело было разведано по высшему уровню контрразведки и взорвано трижды, да каждый раз все мощнее был взрыв, заставлявший сотрясаться в конвульсиях планету ее тела.
Сознание Милы постепенно выплывало из тумана, она чувствовала себя так прекрасно, как никогда. Хотелось полетать, или чего еще. Попеть, может быть… Она ворошила волосы на голове у Вовы, а он смотрел на географичку восторженными глазами и говорил, говорил — ты красавица, ты удивительная красавица, — а она слушала и зажмуривалась от неги…
— Я люблю тебя!
Она улыбалась и протестовала, объясняя, что это ему кажется, что на самом деле у него такая благодарность в душе к ее телу, первому женскому телу, которое он забрал себе ненадолго. Появится другое, и чуточка новизны пропадет.
Он не слушал ее примитивных доводов, но более слов любви ей вслух не говорил, повторял про себя.
Потом она оделась и вновь уселась в кресло, пережидая слабость в ногах.
— Подаришь портрет? — спросила и зевнула широко, до слез.
— Бери, — согласился он.
— Краски, верно, еще не высохли… Принеси в школу…
— Приходи завтра, сама заберешь!
— Не приду!
— Послезавтра?
Мила с трудом выбралась из кресла.
— Попрошу, чтобы кто-то другой был твоим шефом… Слушай, меня посадят за совращение малолетних!..
— А того не стоит? — поинтересовался он почти наивно.
— Наглец!.. Надеюсь, ты умеешь держать язык за зубами?
Этим вечером Вова Рыбаков впервые напился. Допил ликер, прикончил едва начатую бутылку водки и еще несколько маленьких бутылочек из мини-бара, который собирал отец. Полночи его рвало, а когда под утро он заснул, пришли кошмары, и опять орал бородатый мужик, грозясь достать Вову с того света, коли, мешок не отдаст…
Наутро в школу не пошел, мучаясь головной болью и воспоминаниями о вчерашнем.
Конечно, она пришла уже на следующий день под вечер, обнаружив еще на третьем уроке такое неодолимое возбуждение всего тела своего, что молекулы ее женского запаха распространились по всей аудитории восьмого класса, мужская часть которого тотчас позабыла о материках и островах, уставив свои чуткие носы навстречу гормональному ветру.
На переменах за географичкой таскалось целое стадо пацанов, вдруг неожиданно пожелавших узнать природу тектонических сдвигов, или, например, ходят ли австралийские аборигены голыми, или все же набедренными повязками пользуются?
«Я, как сучка при течке, — думала про себя Мила. — А вокруг все кобельки мелкие, да к тому же непородистые!»
Уже в три часа она была у Вовы, раздевалась прямо с порога, совершенно не стесняясь своего совкового белья, разбрасывая его по квартире, а он укусил ее за ляжку, прорвав зубами капроновый чулок, который тотчас разошелся кругами, обнажая белую плоть.
Он тонул в ней, в ее необыкновенном кондитерском теле, в простых неизощренных ласках, которые были для него вселенной страсти. А потом, устав на считанные минуты, рисовал губной помадой ее же портрет на ее же спине.
— Сдеру с тебя кожу живьем! — угрожал Вова, и все начиналось сначала.
Когда она уходила ночевать к мужу, который не только не интересовался географией ее тела, но ничьей другой, десятилетие страдая от какой-то редкой формы депрессии, Вова Рыбаков пил.
Водка, или какой другой алкогольный напиток, придавали ему сил, и были эти силы особенные, будто одолженные ему кем-то, не собственные. Тогда он рисовал, на чем придется и чем угодно, пока ноги не подламывались от усталости…