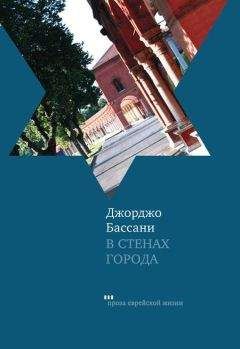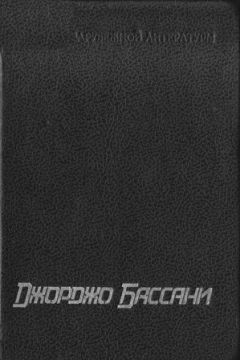— Я надеюсь, ты не станешь снова излагать мне эту свою идею, — прервал я его в этот момент, покачав головой.
— Какую идею?
— Что Муссолини лучше Гитлера.
— Нет, нет, — заторопился он. — Однако ты должен с этим согласиться. Гитлер — это сумасшедший, жаждущий крови, а Муссолини — это Муссолини, может быть, макиавеллист и приспособленец, если хочешь, но…
Я снова перебил его, не сдержав жеста нетерпения. Согласен он или не согласен, с просил я его довольно резко, с тезисом статьи Льва Троцкого, которую я дал ему почитать несколько дней назад?
Я имел в виду статью, опубликованную в старом номере «Nouvelle Revue Franciase», журнале, подшивку которого за несколько лет я бережно хранил в своей комнате. Случилось это так: не помню, почему, но я был очень невежлив с отцом. Он обиделся, стал ворчать, а я, чтобы как можно быстрее восстановить с ним нормальные отношения, не нашел ничего лучше, как познакомить его с моими новыми увлечениями. Польщенный этим проявлением уважения, отец не заставил себя долго просить. Он сразу прочитал, скорее проглотил статью, подчеркнув карандашом множество строк и усеяв поля многочисленными замечаниями.
— В сущности, — заявил он мне определенно, — статья этого негодяя, друга Ленина, явилась для меня откровением.
— Конечно, я согласен! — воскликнул он, довольный, что я расположен поспорить, и вместе с тем обескураженный. — Несомненно, Троцкий — великий полемист. Какая живость! Какой язык! И он смог написать статью по-французски! Вообще, — гордо улыбнулся он, — может быть, русские и польские евреи и неприятны, но у них выдающиеся способности к языкам. Это у них в крови.
— Давай не будем о языке, поговорим о сути, — остановил я его с учительской ноткой в голосе, о которой тут же пожалел. — В статье ясно сказано, — продолжал я уже спокойнее, — капитализм в стадии империалистической экспансии не может быть терпимым к национальным меньшинствам, особенно к евреям, которые являются меньшинством по преимуществу. Теперь, в свете этой общей теории (статья Троцкого была тридцать первого года, не нужно об этом забывать, года, когда началось настоящее движение Гитлера к власти), какое значение имеет то, что Муссолини лучше Гитлера? Да и действительно ли Муссолини как человек лучше?
— Я понял, я понял, — все время повторял вполголоса отец, пока я говорил.
Он сидел, полузакрыв глаза, с лицом, искаженным гримасой болезненного нетерпения. Наконец, совершенно уверившись, что мне больше нечего добавить, он положил мне руку на колено.
Он все понял, повторил он еще раз, открывая глаза. И все же я должен его выслушать, по его мнению, я вижу все в слишком черном свете, мне везде мерещатся катастрофы.
Почему я не хочу признать, что после сообщения от 9 сентября, да и потом, после циркулярного письма от 22, в Ферраре все продолжает идти, как прежде?
— Конечно, — сказал он, грустно улыбаясь, — за этот месяц среди семисот пятидесяти членов нашей общины не умер никто, заслуживающий упоминания в «Коррьере феррарезе» (умерли только две старушки в приюте на улице Витториа, если я не ошибаюсь, Саральво и Риетти; последняя даже не из Феррары, а из маленького городка в окрестностях Мантуи: Саббионетта, Виадана, Помпонеско или что-то в этом роде). Но будем же справедливы: телефонную книгу не заменили на новую, в некоторых наших семьях еще остаются христианки: горничная, няня или старушка-гувернантка, которые должны были бы, охваченные расовыми предрассудками, немедленно уволиться. Коммерческий клуб, где более десяти лет пост вице-председателя занимает адвокат Латтес и куда он сам, как я, должно быть, знаю, продолжает беспрепятственно ходить почти каждый день, не выдвинул никаких требований об исключении. А Бруно Латтеса, сына Леоне Латтеса, разве исключили из теннисного клуба? Совсем не думая о брате Эрнесто, который, глупыш, смотрит на меня всегда с открытым ртом, как будто я какой-нибудь пророк, я перестал ходить в клуб; и очень плохо, должен он сказать, я поступил очень плохо, пытаясь отстраниться, отделиться, не встречаться ни с кем под предлогом занятий в университете и необходимости ездить в Болонью три или четыре раза в неделю. (Даже с Нино Боттекьяри, Серджо Павани и Отелло Форти, которые еще год назад были моими неразлучными друзьями, даже с ними я не хочу встречаться здесь, в Ферраре, а они, месяца не проходит, чтобы не звонили мне все по очереди, бедные ребята!) Посмотри лучше на молодого Латтеса! Судя по спортивным обзорам в «Коррьере феррарезе», он не только смог участвовать в турнире закрытия сезона, который проходит как раз сейчас, но даже играет в смешанной паре с этой красоткой Адрианой Трентини, дочерью главного инженера области, и прекрасно играет: они легко прошли три тура и теперь готовятся участвовать в полуфинале. Ну уж нет, о милом добром Барбичинти все можно сказать: что он придает слишком большое значение трем четвертям благородной крови в своих жилах, например, и слишком маленькое — грамматике в тех статьях по пропаганде тенниса, которые секретарь местного отделения фашистской партии заставляет его публиковать время от времени в «Коррьере феррарезе». Но в том, что он благородный человек, абсолютно не враждебный к евреям, хотя и немного фашист (когда отец произнес это слово «фашист», голос его чуть-чуть дрогнул), в этом нет ни малейшего сомнения, тут и спорить нечего.
Что же касается приглашения Альберто и вообще поведения Финци-Контини, откуда взялось все это их теперешнее беспокойство, все это их желание встречаться?
Очень любопытная вещь произошла в храме на прошлой неделе, когда отмечали Рош-га-Шана[10] (я не захотел пойти, как всегда, и в очередной раз поступил плохо). Да, действительно произошла любопытная вещь, именно в тот момент, когда служба достигла кульминации, скамьи были заполнены молящимися, Эрманно Финци-Контини с женой и тещей в сопровождении детей и неизменных братьев Геррера из Венеции — в общем, весь клан: и мужчины, и женщины — торжественно вошел в итальянскую синагогу после добрых пяти лет позорного уединения в испанском храме, и с такими лицами, удовлетворенными и просветленными, как будто они не больше не меньше как вознаградили и почтили своим присутствием не только молящихся в синагоге, но и всю общину. Это, понятно, еще не все. Теперь они снизошли до того, что приглашают к себе домой, в «Лодочку герцога», подумайте только, куда во времена Жозетт Артом без крайней необходимости не ступала нога ни одного жителя Феррары и ни одного иностранца. А знаете, почему? Потому что они, это совершенно очевидно, рады тому, что происходит! Потому что им, благородным (противникам фашизма, да, но прежде всего благородным), расовые законы в конце концов доставляют удовольствие! И пусть бы они были хотя бы правоверными сионистами! Уж если здесь, в Италии, в Ферраре им всегда было так плохо, если здесь их так притесняли, то они могли бы но крайней мере вернуться на историческую родину. Так нет же! Они только раскошеливались время от времени на небольшие суммы для тех, кто возвращался. В этом как раз нет ничего особенного. Но больше они никогда ничего не делали. Они предпочитали тратить большие деньги на всякие аристократические излишества: в тридцать третьем году, например, в поисках ковчега и пюпитра, достойных их личной синагоги (это должны были быть подлинные сефардские предметы, ни в коем случае не португальские, не каталанские, не провансальские, даже не испанские, и они должны были подходить по размеру!), они на машине отправились ни дальше ни ближе как в Кераско, провинции Кунео, в местечко, где году эдак в девятьсот десятом или около того была маленькая община, уже вымершая, и где только и осталось что кладбище, и то потому, что несколько семей из Турина, происходивших из этого местечка, продолжали хоронить там своих усопших. Да что и говорить! Даже бабушка Альберто и Миколь, Жозетт Артом, в свое время заказывала в Риме, в Ботаническом саду, в том самом, что находится у подножия Яникульского холма, пальмы и эвкалипты, а чтобы повозки свободно проезжали, а может быть, и из соображений престижа, она заставила мужа, этого бедолагу Менотти, расширить ворота в стене «Лодочки герцога» так, что они были по крайней мере вдвое больше любых других на проспекте Эрколе I д'Эсте. Вообще страсть к коллекционированию вещей, растений, всего, чего угодно, приводит к страсти коллекционировать людей. Ну и если они, Финци-Контини, скучали по гетто (очевидно, они хотели бы, чтобы все оказались запертыми в гетто, и намеревались в ожидании этого прекрасного момента разделить на участки «Лодочку герцога» и превратить имение во что-то вроде кибуца, находящегося под их покровительством), то никто им этого и не запрещал. Он бы на их месте выбрал Палестину. Или даже еще лучше Аляску, Огненную землю или Мадагаскар…
Все это случилось во вторник. Я не знаю, как получилось, что через несколько дней, в субботу на той же неделе, я решился сделать как раз обратное тому, чего хотел отец. Я бы не сказал, что сработало обычное чувство противоречия, которое часто заставляет детей своевольничать. Может быть, просто легкий и нежный ветерок, необычно светлый и солнечный день самого начала осени вызвали у меня неожиданное желание взять в руки ракетку, которая лежала в чехле уже почти год, и достать теннисный костюм.