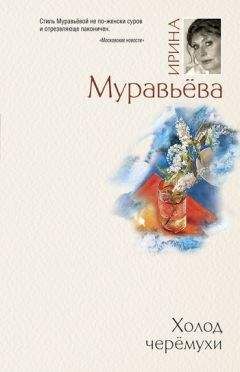— Корова в ячмени ушла, — очень убедительно объяснила Раиска. — Гоняла ее… вдруг, думаю, объелась! Так пусть, думаю, промнется.
— А дождь где тебя настиг?
— У больших валунов. Там в кустах сидела.
Мать обругала корову и больше вопросов дочери не задавала.
20
А вечером приехал Муравлик, позвякал велосипедным звоночком. Раиска вышла на крыльцо.
— Привет, — улыбается Витя радостно. — Можешь меня поздравить: я студент.
— Поздравляю, — сказала Раиска.
Он прислонил велосипед к углу дома, ждал. Она сошла к нему с крыльца, встала, полуотвернувшись, глядела в сторону, сказала хмуро:
— Ты вот что, Витя… уезжай. Не будем сидеть.
— Почему? — опешил он.
— И не приезжай больше.
— Да почему! — прямо-таки возмутился он.
— Я не люблю тебя… А раз так, то и нечего.
Наступила пауза.
— Но ведь это пока… — сказал он тихо. — Потом полюбишь.
— Я уже полюбила… Я встретила человека…
Он помрачнел, тоже отвернулся. Тут мать выглянула из распахнутого окна:
— Да не слушай ты ее, Витя! Мелет незнамо что. Вот я ее скалкой по заднице-то — будет шелковая.
Раиска закрыла окно.
— Уезжай, — сказала она Вите. — Я полюбила, и ты полюбишь. В Ярославле девушек много.
Мать вышла на крыльцо, но не со скалкой в руке, а с пустым ведром.
— Ишь она, какого парня отваживает! Дурь у нее в голове, вот что.
— Да не мешай! — рассердилась дочь. — Дай поговорить.
И та ушла — в огород, грядки поливать.
— Да ладно, — с натугой выговорил Муравлик и жалко улыбнулся. — Пройдет у тебя все это. Расскажешь мне потом, вместе посмеемся.
— Нет, Витя. Я по-настоящему полюбила.
Опять помолчали.
— Да кого? — спросил он. — Выдумываешь все… В городе, да? На рынке, небось. Глупости все это!
— Не спрашивай, не скажу. Но не сидеть нам больше вместе. Забудь меня.
— Ты что, не знаешь? — спросил он вдруг с укором. — Не знаешь, что мы в ответе за тех, кого приручили?
— Это кто же кого приручил? — насторожилась Раиска. — Уж не ты ли меня?
— Нет. Ты меня.
Муравлик стоял, потупясь. Потупилась и Раиска. Прав был Витя: было, было, не отвертеться от того. Он приезжал, сидели вот тут на лавочке, и она, играючи, заводила его руки ему за спину, приказывала: «Держи там!» — и целовала, и обнимала, смеясь. Ей то было в новинку, да и ему тоже. Но бедный Муравлик совсем голову терял. Крупная дрожь сотрясала его.
«Ты чего дрожишь, дурачок?» — спрашивала она.
«Не знаю», — признавался он.
Но как только парень пытался обнять ее, она тотчас отодвигалась, а потом опять, уже насильно, заламывала ему руки за спину: «А вот я тебе их там узлом завяжу…»
Смех у нее при этом был очень коварный. Раиску забавляло, что Муравлик был сам не свой от счастья, когда она целовала его, прижимаясь к нему всем телом.
— Ты меня приручила, — сказал он теперь. — Я уж больше никого полюбить не смогу.
Раиска молчала.
— Ты мной завладела, — продолжал он с непереносимым укором, — потому теперь за меня в ответе.
Может быть, и впрямь потом он будет мужественным, но пока что до мужественности ему далеко.
— Ага, я за тебя ответчица перед Богом и людьми, — хмыкнула Раиска. — Слышала я это.
— Не смейся, — сказал он строго. — Тут дело очень серьезное.
— Твой Сент-Экзюпери имел в виду только самого себя, когда говорил, что мы в ответе за тех, кого приручили. Он приручал, он и отвечал. А ты ишь как перевернул! В свою пользу. На себя налагай долги да обязанности, а я пташка вольная, никто надо мной не властен.
— И этот, про которого говоришь, будто полюбила… и он не властен над тобой?
Надежда прозвучала в словах Муравлика.
— Он властен, — тихо сказала Раиска. — Я его холопка, тем и счастлива. Прощай…
Он стоял, как пришибленный.
— Да не горюй! — ободрила его Раиска, уже поднимаясь на крыльцо. — Жизнь прекрасна и удивительна — вот что главное. И не бери лишнего в голову…
И с этими словами ушла в дом.
Сколько он потом ни звякал своим звоночком, не появилась. Зато вышла из огорода мать, о чем-то довольно долго толковала с ним. Раиска глянет из окна — мать в чем-то тихонько убеждает Витю. Или утешает? А он понуро ее слушает…
21
На другой день она должна была опять ехать на базар, но сказалась больной, как и в прошлый раз. Мать не ворчала, собралась сама, причем довольно охотно. Может, надеялась, что там, в городе, Арсений Петрович опять подойдет к ней и предложит подвезти?
«Нет, — подумала Раиска удовлетворенно. — Ты опоздала… Он уже мой».
Стишки детские вспомнились ей:
Ах, попалась, птичка, стой,
Не уйдешь из сети.
Не расстануся с тобой
Ни за что на свете.
Мать поспешила к рейсовому автобусу в Дятлово, а Раиска, чуть повременив, следом за нею — в Яменник. Она несла Арсению Петровичу обещанную книгу и очень спешила, словно боялась опоздать.
Ее преследовал страх: вдруг вот сейчас придет, а палатки уже нет на месте, и ничего нет, только травка примята на берегу… да и та через несколько дней выпрямится. И тогда — всё, словно и не было тут никого и ничего.
«А что? Собрался и уехал… долго ли ему!» — подумала она и прибавила шагу.
Но нет, и палатка стояла, и все прочее было на прежних местах, только самого Арсения Петровича не было. Она окликнула негромко — никто не отозвался, только малая птаха вспорхнула из ближнего куста.
«Ах, попалась, птичка, стой…»
Раиска положила книгу на видном месте и отправилась на поиски.
Арсений Петрович сидел возле ручья, где по мелководью был выложен мозаикой портрет женщины.
Раиска некоторое время наблюдала за ним. Он же сосредоточенно и терпеливо передвигал камешки по дну длинной палкой, сидя на корточках. Он был так увлечен своим занятием, что не заметил ее. Что-то у него не получалось, он хмурился, потом подвернул брюки, сделал осторожный шаг в воду, наклонился, поправил камешек другой палочкой, покороче, и вернулся на прежнее место.
Вчера он сказал ей: «Нет, я не художник. Рисовать совершенно не умею. А что до того портрета… блажь в голову пришла. Однажды пробирался по этому ручью, а там водичка прозрачная растекается тонким слоем. Вот подумалось, что тут место какому-нибудь изображению… Если, скажем, портрет чей-то — лик этот будет обращен к небу, и оттуда, с высоты, виден. Понимаешь?»
— Все-таки ты художник, — убежденно сказала ему Раиска. — У тебя талант. Эти высверки в глазах у женщины… как ты догадался, что туда надо поместить именно эти камешки?
— Они только при солнце, — сказал он с детской застенчивостью.
Заговорили уже о другом, но Раиску не оставляли мысли о той женщине.
— Мне завидно, — призналась она. — А ты мог бы нарисовать там мой портрет?
Арсений Петрович довольно долго молчал.
— Послушай, — сказал он после раздумья. — Я тут ни при чем. Я не создавал портрета — просто передвигал камешки. А лик этой женщины проявился сам. Значит, она того очень хотела… Если ты так же захочешь, как она… что ж, может быть, у меня получится. Почему бы и в самом деле тебе не проявиться там?
— Я очень хочу… — сказала Раиска, обнимая его.
Этот разговор был вчера. А теперь она тихо-тихо подошла к нему и остановилась в нескольких шагах, боясь, что он услышит ее дыхание или даже стук ее сердца. Может быть, он выкладывает уже ее, Раискин, портрет? Если бы так…
Но нет, на дне ручья по широкому мелководью камешки лежали таким образом, что не оставляли ей надежд — это была все та же печальная женщина, что и прежде.
— Ах, попалась, птичка, стой… — сказала Раиска.
Он обернулся. Вид у него был довольно отрешенный.
— Вчера ты хотел изобразить тут мой лик, — напомнила она.
— Пытаюсь, — сказал он виновато. — Знаешь анекдот про офицера: как ни сяду, говорит, написать стихотворение — все получается рапорт. Вот и я: пытался изобразить тебя… но получается она…
— Ты постарайся, — попросила Раиска. — Я тебя очень прошу.
— Да ведь не всё от меня зависит, — так же виновато отвечал он.
— Я тоже постараюсь, — прошептала Раиска, обнимая его. — И все у нас получится… Потому что я тебя люблю…
22
Домой она возвращалась словно бы оскорбленной, даже поплакала дорогой.
Что ему эта женщина? Чем она лучше ее, Раиски? Разве она моложе? Разве красивей? Если она умерла, то что ей еще надо от него? Почему она, даже мертвая, не может уступить его живой? Ведь даже вчера, во время грозы, когда им было так хорошо, Раиска чувствовала, что он не забывает о той, что на портрете. Он не сказал ей тех слов, которых она ждала… и в ласках был неловок.
Уже входя в деревню, она подумала, утешая себя, что все-таки это благородно — то, что он продолжает любить ту женщину. Вот уж и нет ее на свете, а он все любит…