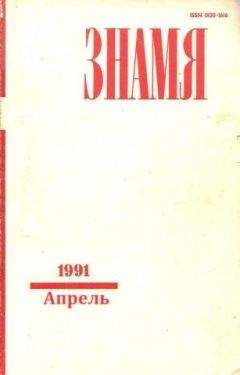Так пошли, никто нас не остановил, никто не спросил и никто не попытался помочь. Только, помню, тетка сердобольная всхлипнула, но один из нас так на нее посмотрел, что она, проглотив свой всхлип, моментально исчезла. Да мы всех в тот момент ненавидели: и тех, кто молчал, и тех, кто пытался нам сочувствовать. Все они убили нашего Швейка тем, что видели, как его убивали, и поэтому они были нашими врагами. И мы знали, мы сюда вернемся и тоже кого-нибудь убьем. Да мы всех убьем, потому что все убивали нас. Убивали тем, что смотрели, как мы голодаем, и тем, что ловили нас и били, били умело, чтобы отбить внутренности: убивали тем, что видели, как мы страдаем, бросаясь за мерзлой картофелиной, упавшей с возка в грязь… Как жмемся к ним, к своим врагам, погибая от холода, от вшей, от язв, которые осыпали наше тело… Убивали вот как сейчас: потому что боялись подойти, боялись помочь, боялись нарушить свой скверный, полуголодный мир, который еще у них был!
Именно в тот момент, когда мы несли нашего остывающего товарища, мы становились врагами всего человечества, потому что мы тогда точно знали: все человечество объединилось против нас.
Мы несли Швейка по огородам, по насыпи, по свалкам, и никто нам не попался навстречу.
Временами мы садились, положив его на землю и постелив ему под голову, чтобы ему, мертвому, не было жестко, лопухи. Не было слов, даже слез не было. Мы вспоминали, как смешно он гримасничал, изображая по памяти фильмы. А во сне он напевая знакомую музыку. Конечно же, он стал бы артистом, циркачом… Даже нам, погибшим душам, было, чуть легче рядом с ним и с его гримасами. И мы с восторгом кричали: «Швейк, изобрази!»
Мы принесли его в лесок и там, на полянке, вырыли руками небольшую ямку, а потом засыпали, затоптали могилу, сровняв ее с землей. Чтобы никто никогда не смог найти нашего Швейка.
Мы одни знали этот кусочек земли.
Мы и воспитателям ничего не сказали. Да они и не очень-то спрашивали. Один из них — завуч, предположил, что мальчик, наверное, решил уехать к родителям. А другой сказал: «Да, конечно, они известные люди и, наверное, решили забрать его к себе».
А мы слышали. Молчали.
Но про себя знали, что, может быть, убьем и этих воспитателей. Потому что они, вот сейчас, убивали нашего Швейка. Убивали как бы по второму разу, ибо ничто, даже исчезновение одного из нас, не могло их прошибить.
Да пропади мы все разом, все, все, кто жил здесь, они смогли бы так же спокойно рассудить и оправдать наше исчезновение, спровадить нас к кому-то, кого на самом деле у нас не было.
Проезжая станцию, я гляжу туда, где был лесок с зеленой полянкой, и мне видно, что теперь там дома. Возможно, при рытье котлована под фундамент экскаватор вместе с красной глиной извлек какие-то кости, не заметив толком, что они — человека, а не собаки.
Но также возможно, что их не коснулось Время и они оказались на пустыре, где, выкорчевав большие деревья, тут же сажают маленькие. И вырастет над этим местом крепкое дерево, густое, обильное: те, кто сажает деревья, знают, что если под ними зарыто живое, они растут почему-то особенно густо и зелено, и объяснить этот феномен не смог еще ни один ученый мира.
Такой остановки в моей памяти нет — Ждановская, — да и быть не может. Ее создали не так уж давно, когда подвели сюда линию метро, и последнюю остановку метро назвали тем же именем [1].
Практически здесь как бы проходит и граница города, упираясь в Московскую кольцевую дорогу — МКД.
Словом, станция чужая, как и название, а вот все, что тут было до станции, мое и всегда будет моим, что бы уж тут ни построили и как бы ни называли…
Сразу за Вешняками следовало Косино, и электричка, резво набрав скорость, перегон-то большой, с привычным завыванием проносилась вдоль садов, а потом болот и торфоразработок по левую руку; а по правую — тянулись сплошь огороды (там теперь депо), а за огородами, в отдалении, виднелись одноэтажные домики деревни Выхино, выстроившиеся темной цепочкой вдоль старого Рязанского шоссе.
Выхинские домики стояли лицом к старой Рязанке, а к поездам и огородам спиной, в одном из них проживала с семьей моя двоюродная сестра Вера.
Я пишу «проживала», потому что как раз через это место впоследствии пролегла МКД, и домик, как и соседские домики, снесли, а Вере дали жилье в Люберцах, там она живет и сегодня.
Наверное, историю Веры нужно бы начать с «довойны», когда жила она у нас, уйдя от своего отца дяди Миши — моего дяди, которого я обожал и звал Папанькой. Он работал на станции Люберцы грузчиком.
В давние времена дядя Миша, моя мама и тетя Поля сиротами были взяты на воспитание к родственникам, жили у них как бы в прислугах.
Дядя Миша женился, а мама ушла работать на Люберецкую трикотажную фабрику и тоже вышла замуж. И забрала к себе тетю Полю, я ее помню до войны молодой, красивой девушкой, о ней речь впереди.
У дяди Миши от первого брака родились три девочки: Вера, Тоня, Нина. Когда их мама умерла, дядя Миша, Папанька, привел в дом мачеху, она была по всем статьям хрестоматийной мачехой, сварливая и криворотая, возможно, что из-за ее криворотости я ее и запомнил.
Наверное, Вере и Тоне в доме с такой мачехой жилось нелегко, ну а дядя Миша, Папанька, огромный, рябой и добрый, только пил и молчал.
Вера и Тоня ушли жить к нам, и только для младшенькой, для Нины, места уже не находилось, она прибегала к нам поплакаться. А когда она подросла, сбежала от мачехи в ремеслуху.
Как уж мы все размещались на семи квадратных метрах, в деревянном доме без удобств и с соседями на кухне, ума не приложу.
Выходит, что нас было на метр по человеку.
Летом еще так-сяк, молодежь, то есть Вера, Поля и Тоня, спали в чулане, а вот зимой расстилались в комнатке на полу, ногами под кровать, где были отец с мамой, а временами и я, а головами — под стол, и первому, кто вставал на работу, надо было будить всех остальных.
Но еще до войны вышла замуж тетка Поля за смирного и задумчивого мордвина дядю Федю, электрика-монтера. Он носил на плече блестящие «когти», чтобы лазить по столбам, и я частенько встречал его на нашей улице. Вечером он приходил к нам в гости и молча посиживал, да временами, стесняясь своей неловкости в разговоре, поддразнивал меня, когда я забирался под стол на горшок. Это был мой личный в комнате «угол».
Дядя Федя и тетя Поля, поженившись, уехали в Косино, на торфоразработки, и там поселились в бараке, тоже в крошечной, еще меньше нашей, комнатушке.
А потом и Вера вышла замуж, это, кажется, произошло в самом начале войны, фамилия ее мужа была Сидоров, и жил он с родителями и семьи брата в том самом Выхине в деревянном доме, что стоял у шумной Рязанки, невдалеке от нынешней станции Ждановской.
В году так сорок шестом я учеником, в пятнадцать лет, пришел в лабораторию, и в этой лаборатории, оказалось, работал инженер Сидоров, брат того самого Сидорова, который и был Вериным мужем.
Внешне они были очень похожи, невысокие и какие-то медлительные, будто сонные.
Этот брат Сидоров тем и запомнился мне, что за своим письменным столом во время работы любил спать с открытыми глазами. И надо было неслышно войти, а потом около уха громко крикнуть: «Сидоров! Перерыв!» — и он испуганно вскакивал, озирался, не видел ли кто случайно его испуга, а потом, заглядывая подобострастно в наши лица, просил: «Не надо кричать… Я и так знаю, что перерыв, только задумался…» И виновато, как мальчишка, шмыгал носом.
А Верин Сидоров во время войны на фронт не попал, он работал в оборонной промышленности. У них пошли дети, все мальчики.
К сорок третьему году, когда я ошивался по всему Подмосковью, оттого что тетка Поля не захотела нас с сестренкой у себя держать, я чаще всего приезжал к Вере. Я так продолжал ее звать — Вера, хоть она была семейной, имела свой настоящий теплый дом.
Ее дом был хорош еще тем, что Вера не могла далеко отойти: двое мальчишек, родившихся у Сидоровых один за другим, так мельтешили, что казалось, их много больше. Впрочем, может, у Веры был тогда один мальчик, другой — соседский, родни…
Промороженный так, что звенела моя одежда, изголодавшийся, приходил я в этот дом с одним-единственным желанием — чтобы меня накормили. Я стучался обмороженным кулаком в дверь, пригибаясь и защищаясь спиной от всепроникающих, залетающих даже под навес ледяных струй, этим ветром во все мои дырки набивался мелкий снег.
Если бы Веры вдруг не оказалось дома, я, наверное бы, не смог уйти, так и остался бы замерзать у ее крыльца, ни сил, ни тепла на обратную дорогу у меня уже не оставалось.
Но Вера открывала дверь и впускала меня.
Она никогда не удивлялась моему виду, не ахала и не плакала по поводу моей такой ненормальной жизни. Ей хватало переживаний и со своими детьми.
Они всегда чем-нибудь болели, и в очередной мой приход, а я приходил, лишь когда чувствовал, что могу сдохнуть с голода, в доме царила обычная очередная разруха: и дров не было, и хлеба не было, и картошки не было, и все-таки они как-то все жили. А рядом, около них, на несколько часов пристраивался пожить и я.