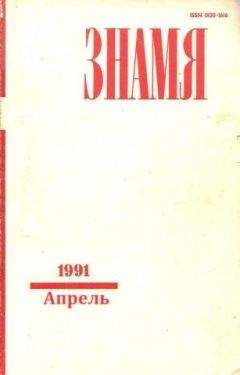И летели, и летели поезда, такие мирные, такие романтические с дымком, застрявшим в проводах! И лишь крошечные листочки, обрывки на насыпи, но они не в силах были приоткрыть нашему глазу всю огромность человеческой трагедии этих, послевоенных лет.
Я принес треугольник домой, и отец и сестренка, потом и соседи читали, судили-рядили, что же нам с письмом делать. Но, помню, отец резко оборвал наш спор со словами: «Дай сюда!» — и забрал письмо в карман. Я после спросил: «Пап, а где то письмо?» — «Какое?» — «Ну то…». Отец лишь отмахнулся, мол, выбросил! И соседям так сказал. И соседи его одобрили, сказав, что так и надо поступать, то есть выбрасывать, потому что неизвестно, может, его какой арестованный полицай-фашист написал, так ему туда, в Сибирь, и дорога!
А через много лет, в застолье, отец сознался, что не выбросил он письмо, духу не хватило то письмо уничтожить, когда человек Богом молил перед гибелью. Это он нарочно перед соседями заявил, что выбросил, боялся доноса, а сам опустил треугольник в почтовый ящик и отправил письмо на Украину несчастной родне того заключенного.
Может, отец и не так говорил, да это и неважно, Я и сам к тому времени знал, что не я один, а многие находили около насыпи такие письма, и было в них одно: отчаянный крик из пересыльного вагона на свободу, наверное, без надежды, что найдут, подберут… Услышат!
Я сейчас вдруг, подумал, что книга эта «Рязанка», как письмо из вагона, я ведь тоже пишу в пустоту, без уверенности, что кто-то найдет, прочтет… Что она, как то несчастное письмо, попадет по адресу к людям.
Прощание с главным героем
Люберцы. Последний взгляд на себя бывшего из окна вагона. Я прижимаюсь к стеклу и вижу странного подростка в серой, еще детдомовской рубахе, в залатанных штанах и рваных ботинках. Сероглазый, большеротый, крошечный чубчик он зализывает на бок, чтобы было как бы взрослей.
Это я, один на весь город, в котором у меня нет друзей.
Отец однажды вечером избил меня за то, что я отказался идти в магазин за вином. Я ночевал у тети Дуси, той самой портнихи, что помогала собирать нас в Сибирь. И хоть я на утро вернулся к отцу и все пошло по-прежнему, но я уже знал, что у отца начинается своя жизнь, а у меня будто бы своя, хотя и никому не нужная.
Сестренка после операции надолго затерялась в санаториях и Лесных школах. Уж как она перенесла все операции и выжила, ума не приложу.
Она прошла весь материн путь, ее резали, резали без конца.
У нее тоже все как бы начиналось сначала.
Она писала иногда мне письма, посылала открытки. На одной из них было написано: «Чувствуй всегда родную почву крепко под ногами, живи с коллективом, помни, что он тебя воспитал. Тот день, когда ты оторвешься от коллектива, будет началом конца. Николай Островский».
Я верил ее письмам и Николаю Островскому.
Я искал свой коллектив.
Я изъездил всю Рязанку в поисках этого коллектива. На Электрозаводской спрашивал, на комбинате имени Щербакова.
На Сортировочной в депо.
На Фрезере на заводе «Фрезер».
В Перово на складе книжной продукции.
В Плющево — не спрашивал.
В Вешняках в Школе комсомольских работников.
В Косино на трикотажной фабрике.
В Ухтомской в теплицах деревни Кожухово.
В Люберцах…
Вам не нужен работник в коллектив? Вам не нужен… Вам…
Старик глуховатый, а может, совсем глухой, со слуховым аппаратом и микрофончиком на столе, от которого шли провода к ушам.
Спросил, сколько мне лет и что я умею делать?
Я умел выращивать яблоневый сад и ухаживать за собаками. А со времен детдома я еще умел вскрывать чужие замки.
— А часы вы ремонтировать не умеете? — спросил старик и оскалил зубы. Он еще ранее догадался, что часы ремонтировать я не научился. И даже будто обрадовался этому.
Вокруг старика были разложены часы, всякие, и они ходили.
— Я научусь! — пообещал я старику. — Я люблю часы! Я даже знаю, как они ходят! Хотите загадку, ни за что не отгадаете! Какие часы показывают в сутки дважды правильное время?
Старик ничего не ответил. Он еще когда только спрашивал про часы, щелкнул каким-то выключателем и отсоединил себя от моего голоса. А теперь преспокойно сидел и глядел прямо в мои глаза. Было понятно, что он не слышит, но зачем он тогда на меня смотрел? Изучал меня? Ждал моих ответных действий? Или…
Я нагнулся и, дунув на всякий случай в его микрофон, добавил:
— Не знаете? Так вот знайте! Два раза в сутки показывают точное время часы, которые стоят! Между прочим!
Старик, уставясь на меня, молчал.
Сзади несильно кашлянули, напоминая, что ждут другие. Из тех, кто, как и я, попали, искали свой в жизни коллектив, а теперь стоят в эту часовую мастерскую в надежде найти его здесь.
Я вздохнул, бросив последний взгляд надежды на его слуховую бандуру и уступил место своему сверстнику.
Почти механическим голосом старик спросил:
— Сколько вам лет? Что умеете делать?
Аппарата своего, по-моему, он так и не включил. Я вдруг понял, что он посажен вовсе не для того, чтобы выслушивать наши ответы. Его чудо-аппарат, величайшее изобретение человечества, при котором можно вести беседу, не слыша друг друга! Господи! Как это удобно, когда никто не хочет ничего о нас знать!
Кричи хоть во все горло, хоть бомбу под ухом взрывай! Они будут смотреть сквозь нас пустыми глазами, и ни одна жилка не дрогнет! Им всем, всем просто на нас плевать! Старик в наиболее законченной форме их всех олицетворял.
Я взглянул на часы, его часы, чтобы определить, успею ли я добраться до следующего отдела кадров. Поразился: они показывали меньше времени, чем прежде? Или я запамятовал, или стрелки на его многочисленных часах ходили в обратную сторону.
Я рванулся в Панки: Институт угольной промышленности.
Вам не нужно…
Нет, им было не нужно.
Ни-ко-му, ни-че-го не нужно было.
Был вечер. На танцверанде в люберецком саду под занавес, так кончались все танцы, Утесовы исполняли свою прощальную песню.
Ну что сказать вам, москвичи, на прощанье,
Чем наградить вас за ваше вниманье,
До свиданья, дорогие москвичи, доброй ночи,
Доброй вам ночи, вспоминайте нас!
Утесовы прощались со мной, и я тоже прощался. Отец избил меня вторично, за чайник, который я по забывчивости оставил на плите, а сам ушел. Чайник кипел, кипел, и расплавился. Отец кричал на меня, ругался матом, он почему-то решил, что я это сделал нарочно.
Но может, он был прав? Если мы никому не нужны, то зачем нам какой-то чайник? Я, ни слова не говоря, вышел из дома, как мне казалось, навсегда, и пошел на станцию. Я еще не знал, что я могу сделать. Но точно знал, что дальше жить я так не буду.
В детдоме жилось хуже, но там было что ждать. Ждать конца войны, ждать отца, ждать другой, лучшей жизни. Теперь ожидание кончилось. У меня оставался лишь я, но я не догадывался, что это не так уж мало.
Я смотрел на колеса электрички, которая ко мне приближалась.
Вот так я себя и видел, прислонясь к ржавому стеклу.
Подросток внизу за окном: странен он мне с высоты лет, отсюда.
Он сейчас смотрит не на вагон, а под вагон, странная догадка возникла в его глазах — о том, что все уже кончилось и дальше уже ничего не будет.
Он идет вровень с электричкой, и я не знаю еще, что же он решит. Вот он ускоряет шаг и при этом смотрит, как зачарованный, на колеса, а поезд набирает, набирает ход.
Мне страшно за него, но в этой точке нашего соприкосновения я с ним прощаюсь!
Я говорю: прощай, дружок! Я не знаю, что ты решишь, но жить, наверное, еще стоит.
Но я говорю тебе: «Прощай!» Потому что: если мы с тобой и встретимся, то это будешь уже не ты, враждебно глядевший на людей и не понимавший того, что жить еще стоит. Стоит, несмотря ни на что, даже если ты будешь и потом, и далее, как я сейчас, всю жизнь обречен на одиночество.
Так прощай же! Прощай!
1963−1984; 1990 гг.
Сейчас она называется «Выхино».