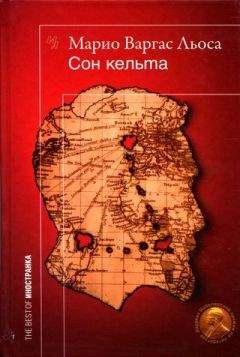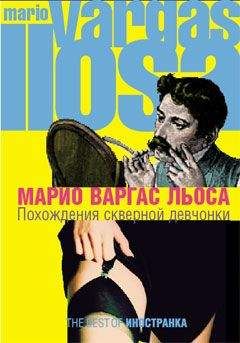— Кто-нибудь навещает его? Из родственников, я имею в виду.
— Дочери сеньоры Аделины, сеньора Лусиндита и сеньора Манолита, часто приходят, около полудня. — Женщина высокая, немолодая, под белым халатом — брюки, мнется на пороге, ей неловко. — Ваша тетя раньше бывала каждый день. Но после того, как сломала шейку бедра, из дому не выходит.
Тетя Аделина намного моложе отца, ей теперь, должно быть, лет семьдесят пять, не больше. Значит, она сломала шейку бедра. Интересно, она все такая же набожная? Раньше каждый день причащалась.
— Он у себя в спальне? — Урания допивает последний глоток. — Ну конечно, где ему еще быть. Не надо, не провожайте меня.
Она поднимается по лестнице, перила выцвели, и нет горшков с цветами, которые она хорошо помнит, ее не оставляет ощущение, что все в доме ссохлось. На верхнем этаже некоторые плитки на полу, замечает она, разбиты, другие расшатались. Это был дом современный, благополучный, обставленный со вкусом; теперь он в упадке, а в сравнении с домами и особняками, которые она накануне видела в Белья-Висте, — просто жалкая лачуга. Она останавливается перед первой дверью — это его комната — и, прежде чем войти, тихонько стучит в дверь.
В лицо бьет яркий солнечный свет, который врывается в распахнутое настежь окно. Свет на мгновение ослепляет ее; постепенно одно за другим вырисовываются кровать под серым покрывалом, старинный комод с овальным зеркалом, фотографии на стенах — как он раздобыл ее выпускную фотографию Гарвардского университета? — и, наконец, в старом кожаном кресле с широкой спинкой и подлокотниками — старик в синей пижаме и тапочках. Он совсем утонул в кресле. Весь словно пергаментный, ссохшийся, как и дом. Внимание привлекает белый предмет у ног отца: ночной горшок, до половины наполненный мочой. Тогда волосы у него были черные, только виски с благородной проседью; теперь — пожелтевшие жидкие пряди на лысой голове, грязные. Глаза у него были большие, взгляд уверенный, глаза хозяина жизни (когда он не находился рядом с Хозяином); а эти две щелочки, что уставились на нее, совсем узенькие, мышиные, испуганные. Раньше у него были зубы, теперь их нет; наверное, вынули вставную челюсть (несколько лет назад она оплатила счет за нее), потому что рот ввалился и щеки впали так, что, кажется, будто касаются друг друга. Он совсем съежился, ноги едва касаются пола. Раньше, глядя на него, она задирала голову, вытягивала шею; теперь, встань он на ноги, будет ей по плечо.
— Я — Урания, — бормочет она, подходя ближе. Садится на кровать, в метре от него. — Ты помнишь, что у тебя есть дочь?
В старике происходит какое-то внутреннее волнение, лежащие на коленях маленькие, костлявые, бледные ручки с тонкими пальцами приходят в движение. Но крошечные глазки, хотя и не отрываются от Урании, по-прежнему ничего не выражают.
— Я тоже тебя не узнаю, — шепчет Урания. — Не знаю, зачем я пришла, что тут делаю.
Старик начинает кивать головой, вверх-вниз, вверх-вниз. Из глотки вырывается хриплый стон, долгий, прерывающийся, заунывный плач. Но скоро он успокаивается, только глаза не отрываются от нее.
— В доме было полным-полно книг. — Урания оглядывает голые стены. — Что с ними стало? Ты уже не можешь читать, это ясно. А тогда у тебя было время читать? Я тебя читающим не помню. Ты был слишком занятым человеком. Я тоже очень занятая, как ты в те поры, а может, и больше. Десять — двенадцать часов в адвокатской конторе или на выезде, у клиентов. Но время для чтения выкраиваю каждый день. Рано утром, когда рассвет только занимается над небоскребами Манхэттена, или поздно ночью, когда за окном — окна, точно соты улья. Я очень люблю читать. По воскресеньям читаю часа три-четыре, после телевизионной программы «Meet the Press» («Встреча с прессой») — Это, папа, преимущество моего положения одинокой женщины. О таких ты, бывало, говорил: «Какая неудачница! Не сумела найти мужа». Вот и я, папа, тоже. Вернее — не захотела. А предложения были. В университете. И во Всемирном банке. И в адвокатской конторе. Представь себе, и до сих пор нет-нет да появится претендент. Это при моих-то полных сорока девяти годах! Быть одинокой не так уж страшно. К примеру, есть время почитать, вместо того, чтобы ходить за мужем и детишками.
Похоже, он понимает, и ему так интересно, что он боится даже шевельнуться, чтобы не прервать ее. Замер недвижно, узкая грудь мерно дышит, маленькие глазки прикованы к ее губам. По улице время от времени проезжают машины; шаги, голоса, обрывки разговора приближаются, удаляются, пропадают вдали.
— Моя квартира в Манхэттене набита книгами, — продолжает Урания. — Как этот дом в моем детстве. Книги по экономике, по праву, по истории. Догадываешься, какой период меня интересует? Эра Трухильо, какой же еще. Самое значительное, что произошло у нас за последние пятьсот лет. Ты говорил это так убежденно. И это верно, папа. За эти тридцать один год кристаллизовалось все зло, которое мы накопили и волокли за собой со времен завоевания Америки. В некоторых книгах появляешься и ты как действующее лицо. Государственный секретарь, сенатор, председатель Доминиканской партии. Кем ты только не был, папа. Я стала специалистом по Трухильо. Вместо того чтобы играть в бридж, гольф, скакать на лошади или ходить в оперу, моим хобби стало вникать в то, что происходило здесь. Жаль, что мы не можем с тобой поговорить. Сколько неясностей мог бы ты мне прояснить, ты ведь жил бок о бок с твоим любимым Хозяином, который так дурно отплатил тебе за твою верность. К примеру, хотелось бы, чтобы ты прояснил мне: с моей мамой Его Превосходительство тоже спал? Она замечает в старике испуг. Вжавшееся в кресло тщедушное тельце вздрагивает. Урания наклоняется вперед, всматривается в него. Или ей показалось? Вроде он ее слушает, вроде даже силится понять, что она говорит.
— Ты это позволил? Покорно смирился? Использовал для собственной карьеры?
Урания дышит глубоко. Оглядывает комнату. На тумбочке у кровати две фотографии в серебряных рамках. На одной — она в день первого причастия, в тот год умерла ее мать. Может, покидая этот мир, она уносила с собой образ своей дочурки с ангельским взглядом, в волнах этого прелестного тюлевого платьица. На другой фотографии — ее мать: совсем молодая, черные волосы разделены пробором, тонкие, выщипанные брови, глаза грустные и мечтательные. Старая, пожелтевшая фотография, чуть потертая. Она подходит к тумбочке, берет фотографию, подносит к губам, целует.
Слышно, как у дверей дома тормозит автомобиль. Сердце подскакивает, но она не двигается с места; сквозь занавески виднеется блестящая, сверкающая хромированными деталями машина, роскошный автомобиль. Она слышит шаги, стук дверного молотка и — загипнотизированная, испуганная, застывшая на месте — слышит, как горничная отпирает дверь. Она слушает, не понимая смысла, короткий разговор у лестницы. Сердце колотится, вот-вот выскочит из груди. Стук в дверь гостиной. Молоденькая индианка в наколке на голове испуганно заглядывает в приоткрытую дверь:
— К вам приехал президент, сеньора! Сам Генералиссимус, сеньора!
— Скажи ему, что я очень сожалею, но не могу его принять. Скажи ему, что сеньора Кабраль никого не принимает, когда Агустина нет дома. Иди, скажи.
Шаги служанки удаляются, робко, нерешительно, вниз по лестнице, где вдоль перил в горшках полыхают герани. Урания ставит на место фотографию матери и снова садится на край кровати. Вжавшись в кресло, отец смотрит на нее в тревоге.
— Такое случилось с министром образования в самом начале правления Хозяина, ты прекрасно знаешь эту историю, папа. С молодым ученым, доном Педро Энрике Уреньей, утонченным и блистательным. Хозяин пришел к его жене, когда тот был на службе. И у нее хватило мужества: велела сказать ему, что никого не принимает, когда мужа нет дома. Это произошло в самом начале Эры, когда еще могло случиться такое: женщина отказалась принять Хозяина. Она рассказала об этом мужу, и дон Педро тут же подал в отставку, покинул этот остров и больше никогда не ступал сюда ногой. Благодаря чему и прославился как преподаватель, историк, критик и филолог — в Мексике, Аргентине и Испании. Словом, не было бы счастья, да несчастье помогло: Хозяин пожелал переспать с его женой. В первое время министр еще мог отказать и не погибнуть тут же в автомобильной катастрофе, не упасть в пропасть, не быть зарезанным на улице сумасшедшим или сожранным акулами в море. Он правильно поступил, правда? И тем спас себя от того, чем стал ты, папа. А ты — ты поступил, как он, или иначе? Как твой заклятый друг, ненавистный и любимый коллега дон Фройлан, наш сосед. Помнишь, папа?
Старика бьет дрожь, и снова вырывается хриплая заунывная жалоба. Урания ждет, пока он успокоится. Дон Фройлан! О чем-то они шептались с отцом в маленькой гостиной, на террасе или в саду, он приходил к отцу по несколько раз на день в ту пору, когда они были союзниками в драчке между трухилистскими группировками, в драчке, которую Благодетель сам и разжигал, чтобы нейтрализовать своих соратников, держать их в напряжении — пусть беспокоятся, прикрывают спину от ножей врагов, которые в глазах всех остальных были их друзьями, братьями и единомышленниками. Дон Фройлан жил в доме напротив, на черепичной крыше которого в этот момент настороженно рядком сидят полдюжины голубей. Урания подходит к окну. Не очень изменился с тех пор и дом этого могущественного сеньора, тоже бывшего министром, сенатором, алькальдом, министром иностранных дел, послом и всем, чем только возможно было быть в те годы. А в мае 1961 года, во время великих событий, — даже государственным секретарем.