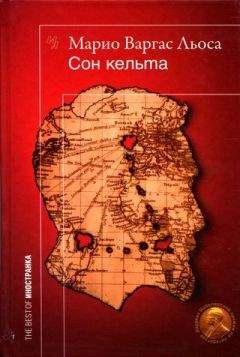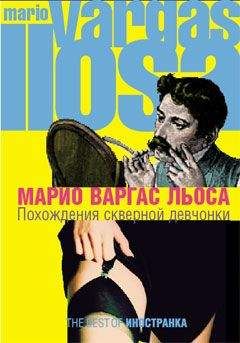Фасад все так же выкрашен в серый и белый цвета, но тоже стал как-то меньше. К нему пристроили крыло, метра в четыре или пять длиною, которое не гармонирует с выступающим треугольным портиком в готическом стиле, где она, уходя в колледж или возвращаясь домой, столько раз видела красавицу жену дона Фройлана. А та, завидев ее, звала: «Урания, Уранита! Иди сюда, дай посмотреть на тебя, дорогая. Ну и глазища! Какая ты красавица, вся в мать!» Она гладила ее по волосам своими ухоженными руками с длинными, ярко-красными ногтями. Уранию начинало клонить в сон, когда та запускала пальцы ей в волосы и нежно перебирала их, почесывала у корней. Как ее звали — Эухениа? Лаура? Или какое-то цветочное имя? Магнолия? Вылетело из памяти. Но лицо в памяти осталось, и белоснежная кожа, мягкий, шелковый взгляд, осанка, как у королевы. Она всегда была одета празднично. Урания любила ее, потому что та была с ней ласкова, постоянно что-то дарила, водила ее в Кантри-клуб купаться в бассейне, но главное — потому что она была подругой ее мамы. Ей представлялось, что, не уйди мама на небо, она была бы такой же красивой, такой же королевой, как жена дона Фройлана. Сам же он видом не вышел. Низенький, лысый, пузатый, ни одна женщина за него не дала бы и пятака. Что заставило ее выйти за него замуж — срочно понадобился муж или из-за денег?
Так она думает-гадает, открывая завернутую в фольгу коробку шоколадных конфет, которую сеньора только что подарила ей, поцеловав в щечку. (Она выходила из школьного автобуса, когда та позвала: «Уранита, иди сюда, у меня кое-что есть для тебя, лапонька!») Урания входит в дом, целует сеньору (на той голубое тюлевое платье, туфли на каблуках, она накрашена, как будто собралась на бал, на шее — жемчужное ожерелье, на руках — перстни), раскрывает коробку, завернутую в фольгу и перевязанную розовой ленточкой. Разглядывает нарядные конфеты, ей не терпится попробовать их, но она не решается — прилично ли это? — и тут вдруг на улице, очень близко, останавливается автомобиль. Сеньора подскакивает на месте — совсем как лошадь, заслышавшая одной ей понятную команду. Становится бледной и торопит: «Тебе надо уйти». Рука, лежавшая на плече Урании, делается жесткой, сдавливает плечо, подталкивает к двери. И когда Урания, послушно подняв сумку с тетрадями, подходит к двери, дверь распахивается. Внушительная мужская фигура — темная тройка, белые крахмальные манжеты с золотыми запонками выглядывают из рукавов — встает у нее на пути. Сеньор в темных очках, чье изображение — повсюду, куда ни глянь, и даже у нее в памяти. От удивления она замирает с открытым ртом и смотрит, смотрит. Его Превосходительство одаривает ее успокаивающей улыбкой.
— Кто это?
— Уранита, дочка Агустина Кабраля, — отвечает хозяйка дома. — Она уже уходит.
Уранита и в самом деле уходит, даже не попрощавшись, так на нее все это подействовало. Переходит через улицу, входит в свой дом, поднимается по лестнице и у себя в спальне стоит у окна и ждет, когда президент выйдет из дома напротив.
— Твоя дочь была так наивна, что даже не задала себе вопроса, зачем Отец Родины приходил в соседский дом в то время, когда дона Фройлана дома не было. — Отец уже успокоился и слушал, или казалось, что слушал, по-прежнему не отрывая от нее глаз. — Так наивна, что, когда ты возвратился из Конгресса, побежала к тебе рассказать. Папа, я видела президента! Он приезжал к жене дона Фройлана! А какое у тебя лицо сделалось, папа!
Было впечатление, что ему сообщили о смерти близкого человека. Или нашли у него рак. Налился кровью, побелел, опять стал красный. А глаза оглядывали, ощупывали лицо дочери. Как объяснить ей? Как предупредить о нависшей над семьей опасности? Глаза инвалида силятся открыться, округлиться.
— Доченька, есть вещи, которых ты еще не знаешь, еще не можешь понять. На то — я, чтобы знать их за тебя, чтобы защитить тебя. Ты для меня — самое дорогое в жизни. Не спрашивай почему, но ты должна все забыть. Ты не была в доме Фройлана. И не видела сегодня его жену. А того, кто тебе почудился, — и подавно. Ради твоего блага, доченька. И ради моего. Никогда не повторяй этого больше, никому не рассказывай. Ты мне обещаешь? Никогда! Никому! Ты мне клянешься?
— Я тебе поклялась, — говорит Урания. — Но и тогда не поняла, в чем дело. Даже когда ты пригрозил прислуге: тот, кто повторит выдумки девочки, лишится работы. Такая была невинная. А когда поняла, зачем Генералиссимус посещает жен своих министров, те уже не могли поступать, как поступил Энрике Уреньа. Подобно дону Фройлану они должны были смиренно принять рога. И поскольку альтернативы не было — извлекать из них пользу. Ты извлек? Хозяин посещал маму? До моего рождения? Или пока я была маленькая и не могла запомнить его? Он ездил к красивым женам. А мама была красивая, правда? Я не помню, чтобы он приезжал, но он мог приезжать, когда меня еще не было. Как поступила мама? Смиренно согласилась? Обрадовалась, была горда оказанной честью? Обычное дело. Добронравные доминиканки бывали благодарны Хозяину за оказанную честь — не погнушался трахнуть. Считаешь, слишком вульгарное слово? Но ведь это словечко твоего любимого Хозяина.
Именно оно. Урания знала это, она читала об этом и бесчисленных собранных ею книгах об Эре. У Трухильо, такого аккуратного, такого утонченного и элегантного в речи — он мог зачаровывать змей, если надо, — ночами, после нескольких рюмок испанского коньяка "Карлос I» вдруг выскакивали такие словечки, которые можно было услышать только на сахарном заводе, скотном дворе, у грузчиков в порту на Осаме, на стадионе или в борделе, в общем, начинал говорить так, как говорят мужчины, когда испытывают потребность почувствовать в себе больше мужских достоинств, чем на самом деле имеют. Иногда Хозяин бывал чудовищно вульгарным, и вытаскивал сальные словечки из той поры своей юности, когда он был управляющим имениями в Сан-Кристобале или жандармом. Его придворные приветствовали подобные словесные откровения с не меньшим восторгом, чем его речи, которые писал для него Кабраль и Конституционный Пьяница. Он дошел до того, что стал похваляться «бабами, которых трахнул», что придворные также приветствовали, даже если при этом и становились потенциальными врагами доньи Марии Мартинес, Высокочтимой Дамы, и даже когда эти «бабы» были их жены, сестры, матери или дочери. И это вовсе не порождение лихорадочной доминиканской фантазии, не знающей тормозов в преувеличении доблестей и пороков и способной реальные события раздуть до сказочных форм и размеров. Были, конечно, и выдумки, преувеличения, расцвеченные природной кровожадностью соотечественников. Но история про Бараону все-таки, по-видимому, истинная. Ее Урания не прочитала, она ее слышала своими ушами (испытав при этом неудержимую тошноту), и рассказывал ее тот, кто всегда был близко — ближе некуда — к Благодетелю.
— Конституционный Пьяница, папа. Да, сенатор Энри Чиринос, предавший тебя иуда. Он рассказал ее своим собственным грязным языком. Тебе удивляет, что я встретилась с ним? От этой встречи я уклониться не могла, я — сотрудница Всемирного банка. Директор попросил представлять его на приеме у нашего посла. Точнее говоря, у посла президента Балагера. Посланца демократического гражданского правительства президента Балагера. Чиринос оказался ловчее тебя, папа. Убрал с дороги тебя, не попал в немилость к Трухильо, а под конец сделал вираж и пристроился к демократии, хотя был таким же трухилистом, как и ты. И в этом новом качестве в Вашингтоне, безобразный, как никогда, раздувшийся, точно жаба, он принимал гостей и сосал-напивался, как губка. А вдобавок забавлял гостей рассказами об Эре Трухильо. Это — он-то!
Инвалид закрыл глаза. Уснул? Голова откинута на спинку кресла, ввалившийся, пустой рот открыт. Так он кажется еще более худым и уязвимым; в приоткрывшийся халат видна голая, безволосая грудь, сквозь безжизненно— белую кожу проступают кости. Дыхание частое. Только теперь она замечает, что отец — без носков, щиколотки — совсем детские.
Чиринос ее не узнал. Мог ли он представить, что эта сотрудница Всемирного банка, которая по-английски приветствует его от имени директора, — дочь его старинного коллеги и приятеля Мозговитого Кабраля? Урания после протокольного приветствия держится подальше от посла и обменивается банальными фразами с людьми, которые, подобно ей, находятся там по долгу службы. Через некоторое время она собирается уходить. Подходит к кружку, сбившемуся вокруг посланца демократии, но то, что он рассказывает, останавливает ее. Серая угреватая кожа, апоплексическая скотская физиономия, тройной подбородок $ слоновий живот, того гляди, вывалится из синей тройки с цветным жилетом и красным галстуком, в которые он затянут, это — посол Чиринос, и он рассказывает, что дело было в Бараоне в последние годы Трухильо, когда тот выкинул коленце, на которые был большой мастак: объявил, что подает пример ради оживления доминиканской демократии — уходит из правительства (марионеточным президентом он назначил своего брата Эктора Бьенвенидо, по кличке Негр) и будет претендовать на должность даже не в президентской администрации, а в губернаторстве какой-то глухой провинции. И к тому же — кандидатом от оппозиции!