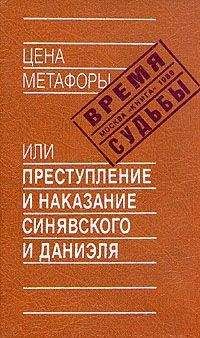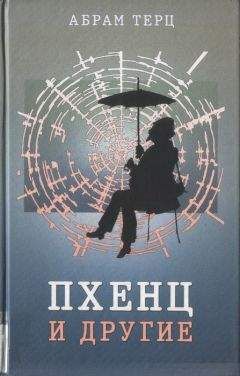Это называется грезить? Мечтать о студебеккерах, которые пройдут по трупам?! Ужас героя перед этой картиной, отвращение – выдавать за мечты?! «Обыкновенный фашизм». – Прямо так и пишет. Но то, что это фашизм, – это ведь надо подкрепить, и вот Кедрина пишет: «Эту программу «освобождения» от коммунизма и советского строя «герой» повести пытается обосновать, с одной стороны, заверениями, будто идея «открытых убийств» берет начало «в самой сути учения о социализме», с другой, что вражда – в природе человеческого общества вообще». Кстати, в повести нет ни единого слова о советском строе, об освобождении от советского строя, герой повести как к последнему прибежищу обращается к имени Ленина («Не этого он хотел – тот, кто первый лег в мраморные стены»). Так все-таки, кто пытается обосновать программу «освобождения» – герой повести или не герой? Я, когда прочел об этом у Кедриной, подумал грешным делом, что это опечатка, типографская ошибка – вместо «отрицательный герой» или «другой герой» напечатали просто «герой», и получилось, как будто речь идет все время об одном и том же человеке, о моем положительном герое. Но нет! Эти же слова прозвучали здесь, в зале, снова. А как же в самом деле? Герой не говорит, «что идея открытых убийств лежит в самой сути учения о социализме»? Так вот: к герою повести приходит его приятель Володя Маргулис, неумный и ограниченный человек. «Он пришел ко мне и спросил, что я обо всем этом думаю» («я» – это герой, повесть от первого лица). И Володя Маргулис «стал доказывать, что все это лежит в самой сути учения о социализме». Так как же, герой это говорит или другой персонаж повести? А герой говорит вот что: «За настоящую советскую власть надо заступиться», герой говорит, что наши отцы делали революцию и мы не смеем думать о ней плохо. Это что, герой повести «обосновывает программу освобождения от коммунизма и советского строя»? Неправда! А кто говорит, что «все друг друга в ложке воды утопить готовы»? Что «скоро звери единственным связующим звеном между людьми будут»? У Кедриной получается, что это тоже «положительный герой». Неправда! Это говорит полубезумный старичок-мизантроп, и герой с ним спорит. Как же обстоит дело с идейным обоснованием псевдопризыва к расправе, к террору и освобождению от коммунизма и советского строя? А вот так, как говорю я, а не так, как утверждает Кедрина. Повесть была прочитана не так, как написана, а нарочито, предвзято, так, как ее невозможно прочесть.
В вину Синявскому и мне ставится все – в частности, то, что у нас нет положительного героя. Конечно, с положительным героем легче, есть кого противопоставлять отрицательному. А наши ссылки, на других писателей, у которых нет положительных героев, воспринимаются, во-первых, как попытки сравнить себя с этими большими писателями. А во-вторых, очень простой ответ: когда речь идет о Щедрине, то в его произведениях присутствует положительный герой, это народ. Очевидно, незримо присутствует, так как тот народ, который изображен в «Истории одного города», вызывает жалость, а не восхищение. И в «Господах Головлевых» народ – положительный герой? А ссылка на сказку о том, как мужик двух генералов прокормил, – просто стыдно это слушать. Кедрина, видно, считает, что этот мужик, который из своих волос силки сделал, чтобы для генералов дичи добыть, мужик, который добровольно в рабство идет, это положительный образ русского народа? Михаил Ёвграфович Щедрин с этим не согласился бы!
Я не стал бы ссылаться на статью Кедриной, если бы вся система аргументации обвинения не лежала в той же плоскости. Ну как доказать антисоветскую сущность Синявского и Даниэля? Тут применялось несколько приёмов. Самый простой, лобовой прием – это приписать мысли героя автору; тут можно далеко зайти. Напрасно Синявский считает, что только он объявлен антисемитом – я, Даниэль Юлий Маркович, еврей, – тоже антисемит. Все при помощи простого приема: у меня тот же старичок-официант говорит что-то о евреях, и вот в деле имеется такой отзыв: «Николай Аржак – законченный, убежденный антисемит». Может, это какой-нибудь неискушенный рецензент пишет? Нет, это пишет в своем отзыве академик Юдин…
Есть еще и такой прием: изоляция отрывка из текста. Надо выдернуть несколько фраз, купюрчики сделать – и доказывать все, что угодно. Самый убедительный пример этого приема – как «Говорит Москва» сделали призывом к террору. Тут все время ссылаются на эмигранта Филиппова: вот кто правильно оценил ваши произведения (вот кто, оказывается, высший критерий истины для государственного обвинителя). Но даже Филиппов не сумел воспользоваться такой возможностью. Казалось бы, уж чего лучше, – если там есть призыв к террору, то уж Филиппов сказал бы: вот как подпольные советские писатели призывают к убийствам, к расправе. Но даже Филиппов не смог этого сказать.
Еще один прием: подмена обвинения героя вымышленным обвинением советской власти – то есть автор говорит какие-то слова, разоблачая героя, а обвинение считает, что это про советскую власть говорится. Вот пример. Обвинительное заключение построено в большей части на отзыве Главлита. Вот в отзыве Главлита говорится буквально следующее: «Автор считает возможным в нашей стране проведение Дня педераста». А на самом деле речь идет о приспособленце, цинике, художнике Чупрове, что он хоть про День педераста станет плакаты писать, лишь бы заработать, это про него главный герой говорит. Кого он тут осуждает – советскую власть или, может, другого героя?
В обвинительном заключении, в отзыве Главлита, в речах обвинителей прозвучали одни и те же цитаты из повести «Искупление». А что это за цитаты? «Тюрьмы внутри нас» – это выкрик героя повести Вольского. Да, это сильное обвинение по адресу всех людей. И я вовсе не старался, как тут говорил Васильев, изобразить дело так, будто я занимаюсь изящной словесностью; я не пытаюсь уйти от политического содержания моих произведений. В этих словах Вольского есть политическое содержание – но что следует за этими выкриками? Кто это кричит? Это кричит безумный человек, он сошел с ума. Он вскоре оказывается в психиатрической больнице.
Еще один, тоже очень простой, но очень сильный прием доказательства антисоветской сущности: выдумать идею за автора и сказать, что в произведении есть антисоветские выпады, когда их там нет. Вот рассказ «Руки». Мой защитник Кисенишский аргументированно доказал, что в этом рассказе нет антисоветской идеи, как его ни толкуй. Возражая ему, Кедрина сказала: «Вы посмотрите, с какой вообще несвойственной ему выразительностью и яркостью Даниэль изобразил сцену расстрела». Прошу, очень прошу, вдумайтесь, что вы сказали: яркость и выразительность описания служат для доказательства антисоветской сущности. Это был ответ на выступление защитника по поводу рассказа «Руки» – и ни слова больше. Если говорить об этом рассказе, то я прошу вас всех: вот вы сейчас придете домой, подойдите к своим книжным полкам, возьмите книгу, раскройте ее и прочтите про то, как красный командир был направлен в команду, которая проводила расстрелы. Он почернел и высох на этой работе, он возвращается домой, шатаясь, как пьяный. И расстреливал он не священников, а хлеборобов, есть там даже такая деталь, я ее хорошо помню: он вспоминает руку расстрелянного, заскорузлую, как конское копыто. Ему очень плохо, очень трудно и очень страшно, он даже оказывается несостоятельным как мужчина, когда остается с любимой женщиной. Ну так что же, подходит этот отрывок под формулировки, которые звучат в обвинительном заключении – что классовая политика репрессий против советского народа и нравственно и физически калечит людей… [81]
Я сейчас, как вы, вероятно, догадались, пересказал одну из глав «Тихого Дона». Действующие лица – красный командир Бунчук и Анна.
Как нас еще обвиняют? Критика определенного периода выдается за критику всей эпохи, критика пяти лет – за критику пятидесяти лет, если даже речь идет о двух-трех годах, то говорят, что это про все время.
Обвинители стараются не замечать, что вся статья Синявского обращена в прошлое, что там даже все глаголы стоят в прошедшем времени: «мы убивали» – не «убиваем», а «убивали». И в моих произведениях, кроме рассказа «Руки», – о 50-х годах, о времени, когда была реальная угроза реставрации культа личности. Я говорил об этом все время, это видно из моих произведений – не слышат.
И, наконец, еще один прием – подмена адреса критики: несогласие с отдельными явлениями выдается за несогласие со всем строем, с системой.
Вот, вкратце, методы и приемы «доказательства» нашей вины. Может быть, они не были бы такими для нас страшными, если бы нас слушали. Но правильно сказал Синявский – откуда мы взялись, вурдалаки, кровопийцы, не с неба же упали? И тут обвинение переходит к рассказу о том, какие мы подонки. Пускаются в ход страшные приемы: обвинитель Васильев говорит, что за тридцать сребреников, пеленки, нейлоновые рубашки мы продались, что я бросил честный учительский труд и ходил с протянутой рукой по редакциям, вымаливая переводы. Я мог бы просить жену, и она принесла бы ворох писем от поэтов, которые просят меня переводить их стихи. Не на легкие переводческие хлеба я ушел от обеспеченного преподавательского заработка, а потому, что с детства мечтал о поэтической работе. Первый перевод я сделал, когда мне было двенадцать лет. Какие это легкие хлеба, любой переводчик знает. Я оставил обеспеченную жизнь, обменял ее на необеспеченную. Я относился к этому как к делу своей жизни, никогда не халтурил. Среди моих переводов были, может быть, и плохие, и посредственные, но это от неумения, а не от небрежности.