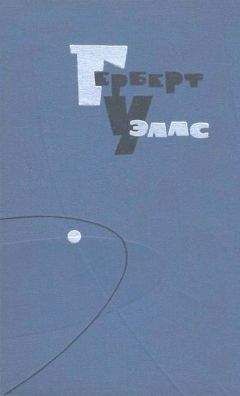27 февраля 2007.
Березин Владимир Сергеевич родился в 1966 году. Закончил Московский университет. Печатался в журналах “Новый мир”, “Знамя”, “Октябрь” и др. Живет в Москве.
Ностальгия — вот лучший товар после смутного времени, все на манер персонажей Аверченко будут вспоминать бывшую еду и прежние цены. Говорить о прошлом следует не со стариками и не с молодыми, а с мужчинами, только начавшими стареть — вернее, только что понявшими это. Они еще сильны и деятельны, но вдруг становятся встревоженными и сентиментальными. Они лезут в старые папки, чтобы посмотреть на снимок своего класса, обрывок дневника, письмо без подписи. Следы жухлой любви вперемешку с фасованным пеплом империи — иногда в тоске кажется, что у всего этого есть особый смысл.
Но поколение катится за поколением, и смысл есть только у загадочного течения времени — оно смывает все, и ничье время не тяжелее прочего.
НОВЫЙ ГОД
Меня окружал утренний слякотный город с первыми очнувшимися после новогодней ночи прохожими. Они, как бойцы, выходящие из окружения, шли разрозненно, нетвердо ставя ноги. Автомобиль обдал меня веером темных брызг, толкнула женщина с ворохом праздничных коробок. Бородатый старик в костюме Деда Мороза прошмыгнул мимо. Что-то беззвучно крикнул продавец жареных кур, широко открывая гнилой рот.
Город отходил, возвращался к себе, на привычные улицы, и первые брошенные елки торчали из мусорных баков. Ветер дышал сыростью и бензином. Погода менялась — теплело.
Я свернул в катящийся к Москве-реке переулок и пошел, огибая лужи, к стоящему среди строительных заборов старому дому. Там, у гаражей, старуха выгуливала собаку. Собака почти умирала — в богатых странах к таким собакам приделывают колесико сзади, и тогда создается впечатление, что собака впряжена в маленькую тележку.
Но тут она просто ползла на брюхе, подтягиваясь на передних лапах. Колесико ей не светило.
Мало что ей светило в этой жизни, подумал я, открывая дверь подъезда.
Я шел в гости к Евсюкову, что квартировал в апартаментах какого-то купца-толстопуза. Богач давно жил под сенью пальм, а Евсюков уже не первый год, приезжая в Москву, подкручивал и подверчивал что-то в чужой огромной квартире с видом на храм Христа Спасителя.
Мы собирались там раз в пятый, оставив бой курантов семейному празднику, а первый день Нового года — мужским укромным посиделкам. Это был наш час, ворованный у семей и праздничных забот. Мир впадал в Новый год, вваливался в похмельный январский день, бежали дети в магазины за лекарством для родителей, а мы собирались бодрячками, храня верность традиции.
Было нас шестеро — егерь Евсюков, инженер Сидоров, буровых дел мастер Рудаков, во всех отношениях успешный человек Раевский, просто успешный человек Леонид Александрович — и я.
И вот я отворил толстую казематную дверь, и оттуда на меня сразу пахнуло каминным огнем, жаревом с кухни и вонючим кальянным дымом.
В гигантской гостиной, у печки с изразцами, превращенной купцом в камин, уже сидели Раевский и Сидоров, пуская дым колечками и совершенно не обращая на меня внимания.
— …Тут надо договориться о терминологии. У меня к Родине иррациональная любовь, не основанная на иллюзиях. Это как врач, который любит женщину, но как врач он видит венозные ноги, мешки под глазами (почки), видит и все остальное. Тут нет “вопреки” и “благодаря”, это как две части комплексного числа, — продолжал Раевский.
— У меня справка есть о личном общении, — ответил Сидоров. — У меня хранится читательский билет старого образца — синенькая такая книжечка, никакого пластика. Там на специальной странице написано: “Подпись лица, выдавшего билет: Родина”.
Они явно говорили давно, и разговор нарос сосулькой еще с прошлого года. Раевский сидел в кресле Геринга. Мы все время подтрунивали над отсутствующим хозяином квартиры, что гордился своим креслом Геринга. На многих дачах я встречал эти кресла, будто бы вывезенные из Германии. Их была тьма — может, целая мебельная фабрика работала на рейхсмаршала, а может, были раскулачены тысячи дворцов, где всего по разу бывал толстый немец: Геринг посидит минуту да и пересаживается в другое кресло, но клеймо остается навсегда: “кресло Геринга”.
Чтобы перебить патриотический спор, я вспомнил уличную сценку:
— Знаете, я, кажется, видел Липунова.
— Того самого? Профессора?
— Ну да. Только в костюме Деда Мороза.
— Поутру после Нового года и не такое увидишь. — Сидоров подмигнул. Сидоров был человек простой и в чтении журнала “Nature” замечен не был. Теорию жидкого времени Липунова он не знал и знать не хотел.
Меж тем Липунов был загадочной личностью, знаменитым физиком. Сначала он высмеивал теорию жидкого времени, потом вдруг стал яростным ее адептом, а потом куда-то пропал. Говорили, что это давняя психологическая травма — у Липунова несколько лет назад пропал сын-подросток, с которым они жили вдвоем.
Он пропал, может, сошел с ума, а может, просто опустился, как многие из тех, кто считал себя академической солью земли, а потом доживал в скорби. Были среди них несправедливо обиженные, а были те, чей срок разума истек. Ничего удивительного в том, что я мог видеть профессора в костюме Деда Мороза. Любой дворник сейчас может на день надеть красный полушубок вместо оранжевой куртки.
— Ну, дворники разные бывают, — возразил Раевский. — Я вот живу в центре Москвы, в старом доме. На первом этаже там живут дворники-таджики. Не знаю, как с ними в будущем обернется, но эти таджики мне ужасно нравятся — очень аккуратно всё метут, тихие, дружелюбные и норовили мне помочь во всяких делах. Однажды пришел в наш маленький дворик пьяный, стал кричать, а когда его принялись стыдить из окон, он отвечал разными словами — удивительно в рифму. Так вот, таджики его поймали и вежливо вразумили, после чего убрали все то, что он намусорил битыми бутылками.
— А ты уверен, что если ночью не постучать к твоим таджикам, то ты не станешь счастливым владельцем коробка анаши? — не одобрил этого интернационализма Сидоров. — Я почувствовал, что они сейчас снова свернут на русскую государственность. — Говорят, что таджикские дворники на самом деле непростой народ. Помашут метлой, вынут из кармана травы. Вот я поздно как-то приехал домой — смотрю, толкутся странные люди у дворницкого жилья. И везде, куда заселили восточную рабочую силу, я всегда вижу наркоманических людей.
— В Москве сейчас много загадочного. Вот строительство такое загадочное…
— Ой, блин, какое загадочное! — На этих словах из кухни, отряхивая мокрые руки, вылез буровых дел мастер Рудаков. — Золотые купола над бассейнами, туда-сюда. У нас ведь, как всегда, две крайности: то тиграм мяса не докладывают, бутылки вмуровывают в опорные сваи, то наоборот. Вот как-то пару раз мы попадали — то ли на зарывание денег, то ли еще что. Мы сажаем трубы, двенадцать миллиметров, десять метров вниз, два пояса, анкера, все понятно. Трубы — двенадцать метров глубиной, шаг — метр по осям, откапывают полтора метра, заливается бетонная подушка с нуля еще метра полтора — что это?
Я слушал эту музыку сфер с радостью, потому что я понял, кого мне в этот момент напоминает Рудаков. А напоминал он мне актера, что давным-давно орал со сцены о своей молодости, изображая бывшего стилягу. Он орал, что когда-то его хотели лишить допуска, а теперь у него две мехколонны и пятьдесят бульдозеров. В тот год, когда эта реприза была особенно популярна, мы были молоды по-настоящему, слово “допуск” было не пустым, но вот подумать, что мы будем относиться к этому времени с такой нежностью, как сейчас, мы представить не могли. Я почувствовал себя лабораторным образцом, что отправил профессор Липунов в недальнее прошлое, залив его сжиженным, ледяным временем.
Мы все достигли разного и, кажется, затем и были нужны друг другу — чтобы хвастаться.
Но сейчас было видно, что ни славянофилы, ни западники ответить Рудакову не могут.
Я, впрочем, тоже.
Поэтому буровых дел мастер Рудаков сам ткнул пальцем в потолок:
— Что это, а? Стартовый стол ракеты? Так он и черта выдержит, не то что ракету. А ведь через год проезжаешь — стоит на этом месте обычный жилой дом. Ну, не обычный, конечно, с выпендрежем, но, зная его основание, я вам могу сказать — десять таких домов оно выдержит. С лихвой! На хрена?