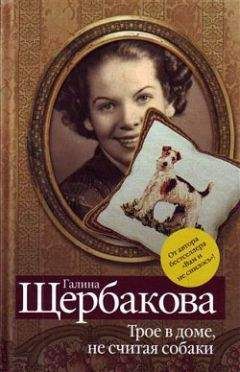Ознакомительная версия.
— Людочка! — говорил Панин. — Курица же чемпион по дури. Это же общеизвестно.
— Кто тебе сказал? — возмущалась она. — Кто? Что мы знаем о том, что курица знает?
Как же ему было интересно с ней! Даже о курицах говорить было интересно.
Как-то ее обидела Зинаида Сорока. Неглупая, конечно, женщина, но без культуры.
У Людочки из рук улетел на улице глобус. У нее такие слабые руки, а ветер был, как в трубе, она хотела перехватить ножку глобуса, ну и не сумела. И глобус покатился, оторвавшись от основания. Людочка за ним. Смешная, конечно, картина: учительница географии, догоняющая глобус.
Все это видела Зинаида и пошла наперерез земному шару и ногой поддала ему в сторону Людочки. Надо знать ногу Зины Сороки. Глобус распался на Азии и Африки. Освобожденные от притяжения материки взлетели в воздух автономно и радостно. Это было полное веселие географии, и нечего было Людочке из-за этого плакать. В сущности, глобус был старый, и она несла его домой, чтоб Панин его подклеил изнутри.
Людочка закричала на Зинаиду за этот пас ногой, а та ей ответила вульгарно:
— При чем тут я, Людмила Васильевна, если вы раззява по всей своей жизни. Вы ни глобуса, ни мужчины держать в руках не способны.
Вот это «ни мужчины» очень задело Паниных. Что имелось в виду? Людочка даже плакала, а Панин сказал:
— Это хамство, и больше ничего, просто хамство. Ты меня очень держишь, очень…
Они не здоровались лет десять. Первым пришел мириться Сорока. Ему тогда исполнилось пятьдесят, и он накрыл во дворе стол для соседей.
— Панины! — закричал он им через забор. — Может, хватит холодной войны? Ведете себя! Я вас зову, и не вздумайте!
Людочка тогда как раз была в ясности, хотя уже давно болела. Сейчас, если вспомнить, так, может, все и началось с того глобуса, а может, и нет… Ведь еще только родился сыночек, Людочка шла из консультации, первый раз сама, без Панина, и чуть его не уронила, хорошо, что рядом чисто случайно оказался Сорока — он тоже приходил в поликлинику на рентген, — он их и подхватил, Людочку и сыночка. И машиной своей их довез, а потом на этой же машине привез и Панина. Так это когда было! Глобус был много позже. А еще через десять лет Панин привел Людочку во двор к Сорокам, и Зинаида кинулась им навстречу, как к родным, и посадила рядом с собой и глаз с Людочки не сводила. Как же он тогда радовался радости Людочки, которая в доброжелательстве просто расцветала. А потом Сороки пели украинские песни, и именно тогда он обратил внимание, что Сорока — вылитый гетман Скоропадский, но мысль эту не высказал, понимая ее опасность.
Людмила Васильевна снова зацепилась за щель. Ее ребеночка украл Сорока. Мальчика, похожего на контуженного мужчину, но совершенно не контуженного, совершенно! Такого, какого она намечтала, когда шла замуж, как на подвиг. Когда целью виделось исправление изъяна в природе и восстановление справедливости к несчастному лейтенанту, от которого в институте бегали все девчонки. А она не убежала. «Мой муж в сраженьях изувечен» — это же так прекрасно и благородно. Она ведь даже купила себе малиновый берет.
Ах, Боже мой! Почему, почему в эти моменты у него всегда появлялся спазм на лице, который превращал ее тело в камень-булыжник! И она начинала биться в его руках и с этим ни-че-го — ничего! — нельзя было сделать.
Панин чувствовал, как меняется в хрупком теле его жены положение души. Вот сейчас было вполне хорошо, и вдруг опять и снова она вытянулась так, как и представить невозможно, и ему кажется, что душа ее выходит горлом, что она не может, не хочет находиться в своем теле, и Панин целует трепещущее горло и просит душу: «Не уходи. Я тебя прошу — не уходи!»
Сорока стоял и смотрел на маленькую звездочку на небе. Она занимала его. Занимала непонятностью сущего. К примеру. Есть она, звездочка, или ее давно нет? А есть ее свет, который пока, сволочь, дошкандыбает, доковыляет до Сороки, но принесет ему уже сплошную брехню о небе. Скажет ему: «Сорока! Привет тебе от звезды!» А звезды-то — тю-тю… Хорошо, что Сорока это понимает. А не понимай?! Он бы, дурак, послал ответный сигнал. «Я, Сорока, стою посреди улицы и шлю тебе привет». Пока бы послание ехало на малой скорости, его, Сороку, уже бы похоронили, отгуляли на его поминках, поставили памятник со звездой (пятиконечной в смысле), потом памятник свергли бы, на месте кладбища построили бы стадион, потом стадион зарос бы, и посередке вырыли бы котлован для большого дома, ковшом бы зацепили берцовую кость Сороки, отложили бы в сторону как нечто, возможно, положили бы на стеклянную полку с этикеткой «Кость неизвестного строителя коммунизма»… Пришли бы на землю марсиане, порушили бы все к чертовой матери, кость увезли бы с собой, положили бы в свой музей, что-то там под ней написали, сами же собой заселили нашу землю, приспособились, размножились, на этой улице жил бы какой-нибудь зелененький и кислый, и вот только в этот момент и пришел бы звезде от Сороки теплый привет. И она, вежливая, села бы писать ему письмо. А он уже не он, а берцовая кость, которой письма не нужны, потому что пришли на Марс сатуриане и размолотили кость в порошок… Как гадость…
Нет, сказал Сорока, мир должен быть устроен иначе, потому что если так, то пошел он тогда к черту… Мир…
— Пошел он к черту, — сказал Сорока Шпрехту, с которым не соскучишься: он сегодня вышел погулять в подрезанных чесанках.
— Кто? — спросил Шпрехт. — Панин? Вы зря, Сорока, так против него имеете… Зря…
— При чем тут Панин? — разозлился Сорока. — Я про другое… Про общий вопрос.
— Уже поздно, — печально сказал Шпрехт. — Общее уже не понять. Оно, Сорока, от нас не зависит. Я думаю, и мелкое все больше само по себе и тоже от нас не зависит… Ноготь растет в мякоть, хоть ты тресни. Получается, и он тебя сильней, а ты его паришь, солидолом мажешь, а он тебя, извиняюсь, посылает на х…!
Сорока испытал чувство глубокого удовлетворения. Вот конкретный случай мысли двух людей: он, Сорока, идет от Звезды, а Шпрехт от Ногтя. Никто специально не подстраивал, а все проявилось. Хотя Варвара, жена Шпрехта-Шпекова, — бывало, и не раз, — грубо намекала, что он, Сорока, темный и необразованный, семилетка и весь багаж, а за плечами у ее мужа горный институт.
Ноготь же все проявил. Смотрите, сказал ноготь, у кого что в голове.
— Ты бы еще и кожух надел, — с удовлетворением сказал Сорока Шпрехту. — Самое ведь время! Лето…
— Распух до неузнаваемости, — пожаловался Шпрехт. — Варя умела срезать как надо. А сейчас у нее руки слабые совсем. Да и ноги тоже. Не выдерживают минуты стояния… Сразу заваливается. И сердится на меня. Вот горе!
— Вон идет твой Панин! — сказал Сорока. — Опаздываешь, сосед, на конференцию, опаздываешь…
— Людочка плоха, — ответил Панин. — Опять сбилась с памяти.
— Мяукает? — сочувственно спросил Сорока.
— Да нет же! Вас вспоминает… Помните, как она чуть не упала, а вы подхватили ребенка?..
— Это было, — ответил Сорока. — Очень она была малокровная, очень… Надо было только что убитую, живую кровь пить, а ты умничал… Говорил, что я варвар. Думаешь, не помню?..
— Ну, в общем-то, варварство, конечно, — ответил Панин. — Что мы, вампиры? Но, скажу вам, если бы сейчас сказали — надо… Дал бы… Все бы дал, все…
— Бабку бы ей… Чтоб пошептала, — сказал Шпрехт. — Раньше это умели…
— Нет, Шпрехт, — ответил Сорока, — твой ум ниже нормы. Такое сказать. Бабку!
— Я бы и на бабку согласился, — вздохнул Панин. — На все согласился бы. Да и вы, думаю, тоже, — это он сказал Сороке.
И сбил того с легкого опьянения чувством превосходства, ибо не мог Сорока не согласиться с Паниным. Пошел бы и к бабке, и к дедке, и к черту в ступе. Даже зная, что все пустой номер.
— Эй, Панин! — сказал он. — Разве ж нет!
Шпрехт вынул ноги из чесанок и зарылся ими в землю.
— И-и-иии, — вышло из него горлом наслаждение, — и-и-иии…
— Вы осторожней, внесете инфекцию, вы же ковыряли ноготь, — сказал Панин.
— Вот именно, — добавил Сорока. — Тебе сейчас заражение самое то…
— Айнс, цвай, драй, фир, фюнф, зекс, зибен, ахт, нойн, цен… А потом эльф, цвельф и концы… И что тут можно сделать, если мне написано умереть от заражения крови? — философски ответил Шпрехт.
— Не совать лапу с нарывом в землю! — закричал Сорока. — Дураку ума! У него за плечами горный институт! Горный институт! — Сорока голосом передразнил Варю, и очень похоже.
— Институт тут ни при чем, — сказал Панин. — Но ногу лучше будет продезинфицировать в марганцовке.
— Найн! — звонко закричал Шпрехт. — Найн! У нее под подушкой пепельница, чтоб меня убить. Так я умру сам! Не буду я ее затруднять. Ей нужны силы, пусть побережет. Она будет плакать, вы увидите, будет! Она поймет, как я ее любил, а она меня не любила, нет! Я ей просто достался по жизни. Она любила того… первого… А я оперированный насквозь. На животе нет живого места.
Ознакомительная версия.