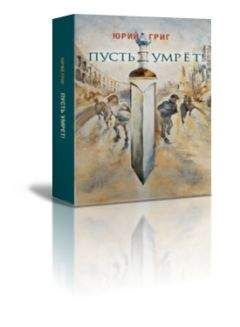— Знаешь, Алекс, почему вы так нас не недолюбливаете? Потому что мы богатые и здоровые, а вы бедные и больные. А последние всегда недолюбливают первых. В этом, к сожалению, нет ничего оригинального. Мы даже когда болеем неизмеримо здоровее вас в самом вашем цветущем состоянии. Просто завидуете и не можете этого скрыть. Ругаете Америку, а сами открыто и тайком собираете ненавистные доллары. Что, нечего возразить, да? Ха-ха... – исторг он короткий злорадный смешок.
— Да пошел ты! Лично я вынужден терпеть тебя по причине хорошего воспитания. Я вообще недолюбливаю бородатых людей. Вот сбреешь бороду, тогда звони... Может быть, передумаю.
Фил расспросил про Алёну (слегка поцапались); про погоду (с октября по май в Москве только плохая погода и другой здесь принципиально не бывает); про тех длинноногих, с которыми отрывались вместе в Барвихе года четыре назад (ты бы еще вспомнил школьных подруг); про работу (какая, к чертям собачьим, работа в три часа ночи). Раздраженные ответы Фил выслушал терпеливо, как и полагается американцу, потом нелестно отозвался о феномене вечной русской безысходности, засим распрощался, выбив из Максимова вялое, но однозначное, обещание с утра обязательно заняться визой.
Оплату поездки он брал на себя, точнее – его газета приглашала русского репортера в качестве эксперта для особого расследования, имеющего важнейшее значение для безопасности Соединенных Штатов... бла-бла-бла...
Наутро перед зеркалом в ванной до Максимова дошло, какую хрень он спросонья пообещал Синистеру.
Не добрившись, он бросился к компьютеру и послал Филу электронку: «Фил, жо..., ты меня сонного решил взять за горло? Ты же знаешь, что за два дня выбраться из Москвы – нереально. Лучше будет, если ты найдешь в своем расписании окно и подвалишь сюда на следующей неделе. А если тебя волнует аргентинская экзотика, то у нас (уверен – ты не сомневаешься!) есть всё, что только способен представить себе любой бородатый чудила вроде тебя. Если хочешь встретиться в аргентинском ресторане и исполнить танго, то для этого мне не обязательно пилить на другой конец света. Ты же давно собирался в Москву. Так что давай-ка, друг любезный: из Аргентины прямиком сюда. Вам американцам все равно – что Аргентина, что Москва – одинаковая задница. На Тверской недавно открылся ресторан «Буэнос-Айрес». Уютное местечко. Заодно позвонишь тем, длинноногим. Если, конечно, они не сменили телефон. Только я – пас, у меня Алёна. Таксисту в Шереметьево так и скажешь: «В Буэнос-Айрес!». Он поймет».
Фил, разумеется, не стал долго упираться.
Максимов сидел, как и обещал, в том самом аргентинском ресторанчике. Он не соврал – место было действительно уютное; стены увешаны фотографиями из жизни всемирно известного города, родины танго, и, как утверждают сами аргентинцы, столицы футбола. А посему снимки знаменитых футболистов современности перемежались старинными дагеротипами аргентинских певцов-легенд. Карлос Гардель и Аннибал Тройо прекрасно уживались с Лионелем Месси по кличке «Блоха», а Освальдо Пуглиезе и Астор Пиаццола были окружены футболистами сборной Аргентины последнего ЧМ. Старинная фотография легендарного Хосе Мануеля Морено соседствовала с Диего Марадоной, заключающим в объятия вожделенный кубок.
Картинки были в кофейных тонах, так же, как и обивка стульев, скатерти на столиках и прочий ресторанный реквизит, как бы подчеркивая, – вы попали в мир кофе, сеньоры.
Битый час Максимов выслушивал, как сводки с поля боя, телефонные сообщения Фила о его продвижении по сплошной гигантской пробке, растянувшейся от Шереметьева до центра Москвы. Сводки перемежались проклятиями в адрес того, кто заманил его в эту западню. Фил обещал ему все неприятности, которые может представить себе слабый на выдумки такого рода заокеанский человеколюбивый умишко.
«В этом-то наш прямолинейный, как клюв птеродактиля мозг мог очень даже поспорить с высокоразвитой американской цивилизацией», – про себя подумал Максимов, успокаивая друга. Жалкие игрушечные угрозы Фила не могли сколь-нибудь серьезно запугать закаленного жителя столицы, и только веселили его.
Латиноамериканский дух ресторана усиливала шоколадная мулатка, импортированная прямо с 35-й южной широты и вовсю старающаяся зажечь немногочисленную в этот час публику:
Не затихает ни на миг Буэнос-Айрес,
Не может глаз сомкнуть всю ночь Хосе Альварес,
На простынях темнеет тело аргентинки,
А на ладони – черный пистолет!
Там, где слиянье океана и Параны,
Коснется кисть рассвета золотым шафраном,
И на ресницах – две алмазные слезинки,
А на прицеле – четкий силуэт!
На маленькую сцену, словно с потолка, свалилась тропическая парочка и сразу же начала демонстрировать блистательный танцевальный класс – ничем не хуже оригинального, аргентинского. Оба в красно-черном, они чеканили танго, пересекаясь на встречных курсах и вновь элегантно расходясь. Взоры были прикованы друг к другу так, словно ничего другого вокруг них не существовало – только эта музыка и эти прекрасные глаза. Они, то начинали двигаться в ускоряющемся темпе милонги, то покоряли каскадом виртуозных поворотов и вращений в стиле танго-вальс.
Опять и опять звонил Фил, снова ругался, а певица жарко и нежно обвивала микрофон длинными тонкими пальцами:
Рожденное когда-то на берегах Ла-Платы,
Там, где весьма обычно ходить ногами вверх,
«Mi noche triste» танго, «Mi noche triste» танго,
Взойдет наутро солнце, но только не для всех!
Погода и пробки – две главные и практически единственные темы, к которым москвичи относятся с особым пиететом. Вторая тема иногда грешным делом наводит на мысль о массовой эпидемии мазохизма – с таким удовольствием и самозабвением смакуют столичные жители детали своих «пробочных» приключений. Болезнь эта еще и заразная, что немедленно подтвердил Фил. Он ворвался в зал ресторана и сразу же заорал дурным голосом:
— Что это за город, по которому нельзя передвигаться! И что самое интересное, Алекс, все ругают друг друга нехорошими словами. Если бы завтра вам разрешили ездить по улицам на танках, то послезавтра ваша страна обратилась бы к международному сообществу за помощью.
— Ну да, ну да... У вас в Нью-Йорке трафик, как в деревне, и все участники дорожного движения признаются друг другу в любви, да? – отпарировал Максимов.
— В любви не признаются, но ты знаешь не хуже меня, что в Нью-Йорке, как и во всех цивилизованных странах, водители, напротив, соревнуются в том, кто первый уступит дорогу. И не только водители...
— Ты что, не читал, что мы, русские, самые гостеприимные?
— Читал, читал,.. – согласился Синистер. – Сами же и распространяете эти слухи... Ты лучше скажи, откуда такая кровожадность? В действительности, если взять среднестатистического гражданина вашей страны, он, наверняка, как и другие его сограждане, боится крови. А тут... одни инстинкты... Реакция на раздражитель, как у древнего человека...
— Есть такое, не любим мы друг друга... Зато вы жадные, а мы последнее отдадим.
Обменявшись таким образом приветствиями, они обнялись с обязательными прихлопываниями по спине, с подчеркнуто бесконтактными поцелуями. Это такая модная нынче, сравнительно скупая мужская ласка – щеками слегка обозначить касание и почмокать возле уха. Со стороны похоже на забор проб воздуха возле ушей. Но, что поделаешь, обычай есть обычай, как бы смешно он ни выглядела.
А кроме шуток – Максимов был искренне рад видеть Фила, всем своим обличьем являвшего полнейшую противоположность своей фамилии[2]. К тому же, он был почти родным, этот Фил: бабка по материнской линии родилась под Смоленском и была смыта с берега зарождающегося нового миропорядка в пучину капиталистического хаоса еще «первой волной» вместе с достопочтенными родителями, местечковыми ортодоксальными евреями.
После нескольких лет мытарств и злоключений семья, поверившая в справедливость и добро, которыми повеяло от Веймарской конституции, обосновалась в Германии. Там повзрослевшая и налившаяся соками Цицилия встретила суженого – школьного учителя, вместе с которым немало потрудилась, чтобы дать жизнь пятерым чадам, одним из которых и была дочь, красавица Эсфирь, будущая мама бородатого, толстого, но замечательного во всех отношениях Филиппа. До того как родить это чудо природы (конечно, она родила его без бороды, но толстым он был с самого начала), семья по счастливому стечению обстоятельств и, главное, вовремя переселилась в Швейцарию, где глава семьи получил работу клерка в одной фармацевтической фирме. Своевременный переезд позволил им избежать всепожирающего огня Холокоста. Здесь Эсфирь повстречала и счастливо вышла замуж за очарованного Альпийскими горными красотами и непревзойденным шоколадом американского журналиста сладкоежку Роберта Синистера – будьте знакомы: батюшка Филиппа, – и упорхнула с ним за океан.