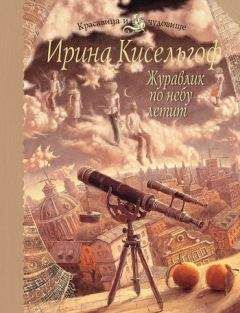– Ржачно! – Мой недоросль заржал как жеребец.
– Еще раз сорвешь урок, – я приблизила к нему лицо, кипя от гнева, – кабинет твоего отца будет в твоей комнате!
– Не выйдет!
– Хочешь, чтобы выпали зубы?
Мне зааплодировали. Я обернулась; завуч вырезала на мне клеймо Павлика Морозова.
Я пригласила Бухарину в кафе. Мне надо было кому-нибудь пожаловаться. Почему не лучшей подруге? К тому же надо вытаскивать Бухарину из бесконечной депрессии.
– У нас порочная система образования. Оценки по поведению заменяют знание предмета, – сказала я. – Знаешь, что сегодня случилось?
– Что? – промычала Бухарина набитым ртом. Я горестно вздохнула и рассказала о школьных мытарствах моей кровинушки.
– Ерунда! – резюмировала Бухарина. – Все намного хуже. У нас ужасная школьная программа.
– Отличная. – Я вспомнила пестики, тычинки и презервативы.
– Патриотичная! – захохотала Бухарина, на нас оглянулись. – Вообрази, что случилось с моим Шуркой.
Я махнула рукой. Бухарину все равно не переговорить. Бесполезное занятие. Давно поняла.
Я вдруг засмеялась и быстро отвернулась. Вспомнила Капитана из Ольгиной труппы дзанни. Они с Бухариной чем-то близки. Если ее обрядить в военный костюм, получится солдат Джейн, воюющий со всеми на свете – бывшим мужем, его любовницей, всеми мужчинами, борцами за нравственность, телевидением, школьной программой… С самой собой, в конце концов. Они даже внешне похожи с Ольгиной куклой! Стоит только убрать усы и бородку. Вылитая Бухарина!
– Ты меня слушаешь? – подозрительно спросила Бухарина.
– Слушаю и воображаю. – Я перестала смеяться и приготовилась внимать.
И Бухарина рассказала мне эпизод из жизни ее восьмилетнего сына Шурки.
– Мам, у нас завтра урок патриотизма, – жуя, сообщил он.
– Чего? – поразилась она.
– Патриотизма.
– Закрой рот и прекрати чавкать, – машинально сказала Бухарина. Ее сын жует и чавкает, как Троцкий.
– Надо рассказать какую-нибудь историю. Патриотическую, – пояснил Шурка. – А я не знаю, какую.
– Читать надо больше, – сварливо сказала Бухарина. – Может, хоть одна мысль явилась бы в твою голову.
– Я не нотаций прошу, а помощи, – заявил восьмилетний сын Бухариной. Совсем как взрослый. В голову Бухариной вломился Павка Корчагин, и у нее свело зубы.
– Островский – хороший человек, у него была тяжелая жизнь, не в пример моей, – застенчиво призналась мне Бухарина. – Но я с содроганием вспоминаю уроки литературы. Мы разбирали писателей по косточкам, как грифы. Что хотел сказать? Зачем хотел? Каков социальный контекст? Как основная идея соотносится с мироощущением народа? Я до сих пор не могу открыть книги известных, очень хороших писателей. Меня по сию пору от них тошнит. Я даже не знаю, потянет ли меня когда-нибудь перечитать их после школы. Теперь министерство образования решило добить патриотизм. Разобрать по косточкам до оскомины на языке. Вообрази!
Интересно, у Мишки бывали уроки патриотизма? Что-то он мне ничего не говорил.
– Патриотизм – это любовь к Родине. Любовь к Родине – это чувство. Уроков по чувствам не бывает, – объяснила сыну Бухарина.
– Бывает, – не согласился Шурка. – У нас было уже два урока. Так что мне рассказать?
Бухариной ничего не лезло в голову, кроме Павки Корчагина. Хоть убей!
– Сиди и слушай одноклассников, – посоветовала она. – А потом повтори все, что они сказали. Начало и конец поменяй местами, середину сделай финалом. В общем, подходи творчески.
– Ясно. Все переколбасить. А если меня вызовут первым? Я же в начале списка.
Умереть, не встать! Ненормальная школа сына Бухариной внедряла детям патриотизм согласно списку. В порядке строгой очереди!
– Я подумаю, – пообещала Бухарина и повела сына в прихожую.
Он надел рюкзак и застрял у двери.
– Так что мне рассказать? – с отчаянием повторил он.
– Песню спой, – буркнула Бухарина.
– Какую?
Бухарина изо всех сил выпучила глаза и замаршировала в прихожей.
Я, ты, он, она!
Вместе дружная страна!
Вместе целая семья!
Вместе нас сто тысяч я!
Бухарина маршировала и пела в прихожей, ее сын визжал и катался от смеха. Бухарина не маршировала, но пела в кафе, я хохотала все громче и громче. На нас все оглядывались уже открыто.
– И помни, – сказала Бухарина сыну голосом доброй феи из «Золушки», – эту песню надо петь с видом лихим и придурковатым.
– Почему? – простонала я, давясь от хохота.
– Чтобы не заподозрили в отсутствии патриотизма!
Бухарина смачно поставила восклицательный знак, и я умерла от смеха.
Выпроводив сына в школу, Бухарина поняла, что источником тлетворного влияния в ее семье является она. Собственной персоной.
– Хотя это еще как посмотреть! – возмущенно сказала мне Бухарина. – Если о моей Родине кто-нибудь скажет плохо, я его с землей сровняю.
– Точно, – согласилась я, вытирая слезы. – Со мной такое уже было. В Турции. Чуть не прибила одного словенца. Какая нелегкая его туда занесла? С Адриатики-то?
Самое смешное, что у нас не было уроков патриотизма. И у великих писателей их тоже не было. Как мы умудрились Родину полюбить? Ума не приложу.
– Родину надо любить по-человечески, а не в состоянии аффекта, чтобы Родину не напугать. Родина у нас одна, – величественно констатировала Бухарина.
– За человечность! – Я подняла рюмку, и мы лихо чокнулись.
Перед моим мысленным взором явилась белобрысая тетка и укоризненно покачала головой. Я отогнала ее одним взмахом руки.
Мне думается, великое нельзя прибить к человеку кучей обычных гвоздей. Великое приходит тихо. Само собой.
Мне было тоскливо, и тогда я пошла на балконный каньон. Ночной город походил на звездное небо в Мишкином телескопе. Электрические звезды горели окнами домов и мигали аргоновыми дорожками рекламных щитов, строились шеренгами уличных фонарей и неслись автомобильными фарами. Даже на горных прилавках мерцали россыпи света. Я подумала, что в зимних горах живут люди, которые прячут свою грусть, как я. Чтобы никто не видел. Даже мама.
Я увидела, как Мишка целуется с девицей в нашем подъезде. И сбежала, испугалась, что меня заметят. А меня никто не заметил. Теперь мне грустно, даже плохо. Я боюсь, что Мишка уйдет, и его больше никогда не будет. Он не прошел отбор, но мне все равно плохо. Почему у меня нет мальчика? Даже Мишки. Потому что я салага? Или некрасивая?
Я вернулась домой, посмотрела на себя в зеркало и ничего не поняла.
– Мам. – Я забралась к ней под одеяло. – Я красивая?
– Очень.
– Ты так говоришь, потому что ты моя мама.
– Нет, – серьезно сказала она. – Это правда.
– Тогда почему я одинокий кенар?
– Кенар? – Я почувствовала, что мама улыбается.
– Ничего смешного! – обиделась я.
– Я и не думала смеяться, – засмеялась мама.
– Моя жизнь летит кувырком, а ты смеешься! – закричала я.
Мама защекотала мне ребра, а я не ответила. Даже мама меня не понимает! Никто не понимает, что со мной!
Я закрыла глаза и вдруг увидела цветы турецкой фасоли. Их бутоны походили на высоколобых розовых младенцев с толстыми гладкими щеками, а цветки на бродячих монахов в широкополых шляпах с развевающимися на ветру рукавами-колоколами. Я видела это, когда лечилась солнцем. Если бы я часто не простывала, мне не назначили бы гелиолечение и я не увидела бы в горах солнечные призмы. В первый день мы с мамой долго ехали в сторону гор, мне хотелось спать, я клевала носом до тех пор, пока не увидела в зарослях высокой травы сверкающие солнцем стеклянные вафли.
– Что это? – потрясенно спросила я.
– Солнечная лечебница, – ответила мама.
Мы шли по узкой тропинке, проложенной бетонными плитами внутри горячей от солнца травы. Она глядела на меня розовыми человеческими мордочками цветочного народца.
– Кто это? – уже ничему не удивляясь, спросила я. – Травяные человечки?
– Турецкая фасоль, – ответила женщина в белом халате и обратилась к маме.:– Заходите с девочкой в кабинку, чтобы ей одной не было страшно.
Мы с мамой покрывались коричневым загаром, стоя в черных водолазных очках под солнечными жаркими вафлями. А я смотрела на кусок синего неба, прямоугольником врезанного в кабинку гелиолечебницы. Мы ходили туда долго, пока цветочный народец не вырос и не стал бродячим монахом. Так в моей памяти осталась идеальная вещь – солнце, запеченное стеклянными вафлями, и цветы, повзрослевшие раньше меня. Конечно, тогда я об этом не думала, но запомнила на всю жизнь и потом изобрела объяснение. Сейчас я вспоминаю о солнечном лекарстве, когда хочу, чтобы меня понимали. И не стоит спрашивать, какая здесь связь. Я и сама не знаю. Может, оттого, что мама несла меня назад на руках. Я близко чувствовала ее, и мне было спокойно. Мы до сих пор спим с ней вместе, и я не хочу, чтобы что-то менялось. Мне от этого будет только хуже.