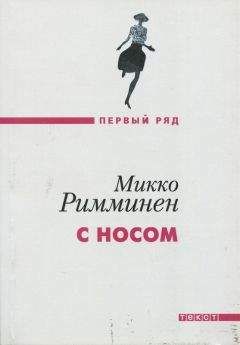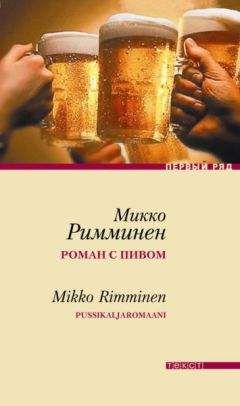Ирья скрылась за дверью, я осталась стоять на коленях в подъезде, правая рука по-прежнему была в почтовом отверстии, она все не осмеливалась отцепиться, хотя в принципе была уже вольна делать все, что угодно. Тяжелые, словно мешки с песком, шаги забухали по лестнице, вот они все громче и наконец замерли где-то совсем рядом. Послышалось сопение, мужественный всхрап и зычное «свамивсевпорядке». Поблагодарила и сказала, что да, хотя, думаю, проглотить это было нелегко нам обоим. Потом этот некто, состоявший из одних только звуков, продолжил свой громоподобный путь, ни о чем больше не спросив, и вскоре совсем исчез вместе с хлопком двери, и плавно сменился Ирьей, которая, внезапно возникнув, стала прикладывать к моему лицу тройные бумажные салфетки с ватой и, может, даже еще и бинт. Одновременно она все повторяла свои «вот-ведь» и «какжетак».
— Вот ведь, — повторила я вслед за ней. Было так стыдно, что мой голос сорвался в какой-то невероятный писк. — Как же это я так…
Приказным и уверенным, но в то же время очень озабоченным тоном Ирья попросила закрыть рот и запрокинуть голову. Потом она быстро провела меня в квартиру, усадила за кухонный стол, велела сжать пальцами крылья носа и смотреть в потолок и сказала, что пойдет вытрет следы крови у двери. Я сидела и хотела умереть. Кровотечение прошло, в носу начала образовываться быстро густеющая каша, через которую пробивался запах кофе и булочек. Каповые часы отщелкивали на стене время. Холодильник издал глотающий звук. Дверь хлопнула, и через мгновение Ирья появилась в границах моего поля зрения, неся в руках тряпки с кровавыми разводами.
Было ужасно стыдно, дорогие микрофибротряпки наверняка были испорчены, и я стала бормотать идиотским зажав-пальцами-нос-голосом, что непременно куплю новые. Ирья сказала, вот еще, всегда постирать можно, ничего в крови страшного нет, спидом-то ведь, чай, не болеешь. Что-то теплое и доброе зашевелилось в груди от такого доверия, но я все равно сказала, что вряд ли их теперь можно использовать и что, конечно, я куплю новые, в доме всегда должны быть тряпки и салфетки, но почему-то именно их вечно забываешь купить в магазине, тряпки и салфетки, почему-то именно их. Ирья ответила: это точно, у нее тоже всегда так, и я добавила: жаль, у и меня вечно сплошные убытки, другого ничего не придумалось, кроме этой глупости, которая когда-то в трамвае показалась смешной, и я попыталась рассмеяться, но смеяться было больно, и из глаз снова брызнули слезы.
— Посиди немного, — сказала Ирья. — Пусть твой нос успокоится.
И она стала чем-то шуметь и греметь возле раковины.
— Пдидеца посидеть, — сказала я. Все эти «д» появились сами собой, вроде со мной не случилось ничего такого, отчего я бы вдруг начала гнусавить, но отчего-то мне вдруг очень захотелось слегка приукрасить свои страдания, это уводило мысли от неприятного инцидента.
— Молчи, а то опять потечет.
— Хадашо, де буду.
— Эй! — сердито сказала она, но тут же не выдержала и улыбнулась, мне тоже захотелось смеяться, но веселиться было еще рано — нос болел слишком сильно.
Она стала греметь посудой. Лимонный «Фэйри» пузырился, и его запах смешивался с ароматом кофе и булочек, не то чтобы это был однозначно приятный запах, отметила я про себя, но, безусловно, домашний, хотя лимоны, конечно, пахнут совсем иначе. На мгновение пришлось задуматься, может, что-то не так с обонянием или с другими рецепторами: я сидела в чужой кухне и анализировала запахи, которые мой забитый кровью нос различать был не должен, это же ясно как день. Следующая мысль была: какая, к черту, разница, стоит ли вообще об этом думать, и сразу появилось чувство вины, словно болтала без умолку, хотя на самом деле я не проронила ни слова, ведь мне было сказано сидеть тихо.
Жаль, что нельзя было говорить. А поболтать очень хотелось.
Попыталась выгнать из головы всю эту дребедень и глупости и не без труда взглянула во двор. Краем глаза успела заметить, как по стволу сосны взметнулась вверх огненно-красная белка. Потом пришлось опять смотреть прямо перед собой, так как любая попытка поменять направление взгляда доставляла правому глазу сильную боль. Оставалось довольствоваться упрямым круговоротом каповых часов и видом спины Ирьи, моющей посуду.
— Как же ты опять тут оказалась? — спросила Ирья, уверенно и энергично вытирая роскошный соусник «Рестранда», в сторону которого, по крайне мере в тот самый момент, я не осмелилась бы даже дышать. Ее вопрос меня испугал: может, она что-то подозревает? Я смотрела на нее из своего затруднительно-запрокинутого положения и наверняка выглядела весьма безумно, вид у меня был, очевидно, как у выпучившего глаза оленя, они так делают, когда отскакивают на обочину, чуть не врезавшись в автомобиль. Я сказала что-то типа «мнах».
— Ах да, твой нос.
— Да нет, я просто, — успела я начать, совсем не картавя. А потом голова вмиг опустела, и я стала тыкать бумажной салфеткой куда-то в область носа, другой рукой пытаясь сгрести свои вещи со стола обратно в сумку, которая печальной кляксой растеклась по моим коленям, словно забытый в миске испортившийся фрукт. И когда я все это делала, в голове вдруг всплыла субботняя телевизионная передача о природе, недельной, а то и больше давности, там была птица, которая называлась синезатылочная паротия, совершенно невероятная, словно бы слепленная человеком, маленькая, важная, сама вся черная, а на груди что-то яркое, разноцветное, и перья на голове, и гребешок, и хвост, и вот она там, значит, зовет кого-то в глубине тропических лесов, такая одинокая, выставляя напоказ все эти пестрые штучки-закорючки, и подметает лес, зажав в клюве пушистую ветку. Подметает лес! Уже тогда, сидя перед телевизором, я никак не могла решить, плакать над этим или смеяться, сложно было решить и сейчас, стало вдруг невыносимо сидеть с закрытым ртом, захотелось во что бы то ни стало рассказать Ирье об этом чудесном создании, о том, как странно оно выглядело и как важно расхаживало, о ярком оперенье, скорее похожем на витрину магазина с конфетами или на наряд чересчур активного птичьего рекламного агента.
Она внимательно слушала, Ирья, но по выражению ее лица было заметно, что мое выступление слишком путано, витиевато, суетливо и затянуто. Когда я наконец дошла до восхваления птичьих способностей подметать лес, Ирья взглянула на меня с некоторым недоверием, как смотрят на потенциального сумасшедшего, но тут же рассмеялась.
Мне тоже стало смешно, хоть и больно, но больше все-таки смешно и легко, оттого что Ирье было смешно, и мы вместе посмеялись — сложно сказать, над чем, но посмеялись, а потом, когда перевели дыхание, он продолжился сам собой, наш разговор. Но никто так и не пришел на ее зов. Ну уж конечно. Во всяком случае в передаче не показали. Да уж. Но как знать может потом и пришел кто. Дай-то Бог. Да уж. Страшно иногда смотреть. Что. Ну эти передачи. А да. Всегда с кем-нибудь что-то нехорошее случается. Это да ужасно. Кто-нибудь попадает в зубы хищнику или так вот. Так вот. Кричит в одиночестве. Как эта вот. Кто. Ну эта пародия. Паротия синезатылочная. Это ж надо так назваться. Да уж. От одного имени плакать хочется. Я даже не знаю толком самка это была или самец. Ну да. Или как там у них у птиц.
Ирья помолчала, а потом сказала только «ну да». И вдруг у нее появились совсем новые глаза, они смотрели вдаль, но как-то одновременно внутрь и наружу, по ту сторону леса, домов и этой минуты. Дворник уже успел дойти до сарая с мусорными баками. Из-за серых досок невзрачного сооружения взвились желтые листья, словно безмолвный крик.
— Ну, как там твой нос? — спросила Ирья.
Я ответила, что, учитывая обстоятельства, очень хорошо, и тут же снова потонула в невнятных извинениях, которые касались на самом деле целого ряда происшествий, но прежде всего, конечно, последнего. Сначала Ирья смиренно слушала, но потом сказала, что все чепуха, ведь это же я тебя ударила дверью; я, конечно, стала возражать, это совсем не она, Ирья, заставила меня засунуть руки в почтовое отверстие, я сама начала толкать туда пакет, как идиотка. И тогда она, естественно, вспомнила о пакете, ну зачем надо было вообще о нем говорить, этим я только подставила себя, и вот уже Ирья почти направилась в коридор, чтобы взять там пакет, но я не пускала ее и твердила, что содержимое наверняка разбилось, или испортилось, или еще что, и на некоторое время Ирья успокоилась, сказав, что потом посмотрим, сначала выпьем кофе и подлечим нос.
Какая она хорошая, подумала я, избавила меня от еще более глубокого стыда и смущения. И на душе стало теплее. Спешить было некуда.
Кофе был готов и даже разлит по чашкам. С булочками я промахнулась, это был запах пирога со смородиной, красной и черной вперемешку. Пирог уже был вынут из духовки и стоял на столе, а сама Ирья сидела за столом. Посмотрели немного во двор, там дворник, опустившись на колени посреди газона, пытался завести свой иерихонский агрегат, мы брякнули чашками и блюдцами, подули на горячий пирог и принялись его уплетать, почти не глядя друг на друга, хотя на меня, наверное, смотреть не особенно-то хотелось, я подумала, что надо бы сходить в ванную и посмотреть, насколько жутко он теперь выглядит, мой нос, но давай еще чуть-чуть посидим, пирог просто божественный.