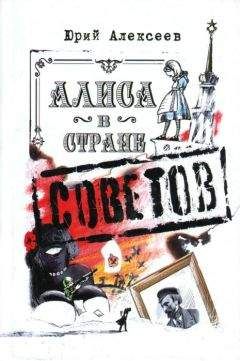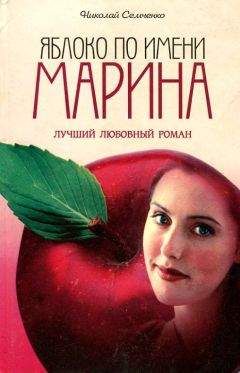— Хороший рецепт, — сказал раздумчиво Кузин. — Запомнить надо.
— Лучше забудьте, — сказал Иван. — Для здоровья полезнее. Не прошло и двух месяцев, как нас вызвали с Котиком в деканат и спрашивают: «Зачем вы ящики у военных украли? Кто выдумал похороны?». «Кто же стукнул?» — соображаю, и говорю: — Да так, знаете, шутка-малютка: наубивали в ночное время два ящика комаров и хотели отправить в помощь народам Поволжья… Короче, у вас искажённая информация. — Гусяев кровью налился и пальцами по столу тарабанит: о кадрах печётся, не хочет выдавать стукача. А Мёрзлый, зараза, тут как тут: — Я на каникулы с лекциями в Тулу собрался. От общества «Знание». Но могу маршрут поменять на Поволжье… То есть дышать нам с Котей оставалось до после Поволжья четыре месяца. А там уже комсомольско-молодёжная казнь и вышибон. Навынос и распилочно, как у нас говорили. Тем паче, что конкуренция к пятому, выпускному курсу среди нас обострилась, и каждый умник горел показать свою высокую трибунальность на грани Вышинского. Вслепую старались парни. Ведь было же наперёд известно: хоть на стену лезь, а третьим секретарём посольства, скажем, в Мексику поедет какой-нибудь партай-бабай из Якутии, прошляпивший заготовку ягеля. Такая партийная ссылка в нашей стране чудес естественна, поскольку в Мексике шляп навалом, а ягель исстари не растёт. И столь же чудесно в Якутию, в пополнение естественной убыли, в газету «Красный оленевод» ссылают свеженького дипломатёныша, купно владеющего испанским, французским, албанским. А что? Каюры замкнуты, как Албания: по-русски с ними не сговоришься. Логично?
— И я про такой же случай, — снова полез в разговор Чанов. — Привезли нам вместо солидола автол…
Здоровяк Кузин молча сгрёб Чанова и перенёс на диван, где мирно всхрапывали Толякин и Славушкин. Иван освежился тем временем содовой и продолжал:
— Словом, перспективы на жизнь были мрачные. И тут зашевелился гномик Котяры, навёл на каверзу: «Дочка Кубасова!». К дурнушке этой никто близко не подступал, поскольку в неё со времен картошки Мёрзлый метил. Старательно эдак вокруг неё крылом чертил, кукарекал монолог Гремина и дублировал объяснения Отелло Сенату. Ну чернь ряжская, что с него взять? А Котик к Нинель подчалил, расплылся в одной из своих шести улыбок-ловушек: «Ну, как дела, какие проблемы, крошка?» — и через три месяца, глянув косо на дочку, Кубасов имел неудовольствие убедиться, что против кое-кого бронированные машины недействительны. По здравым соображениям, тут надо вызывать тётушку из деревни и готовиться в дедушки. Но, сам знаешь, со времён отказа от царских долгов наш дипломат говорит «нет», даже если его — лицом перед фактами. Нинель была в полном отчаянии и только твердила Котику: «Рожу ребёнка, даже если тебя сошлют в Монголию». А Мёрзлый вовсе ум потерял, ускакал до срока в Поволжье — отыскать факты, предотвратить, разрушить! Котик же на все эти экзерсисы лишь по-чеширски сожмурился и сказал: «Нинель, не надо Монголии, юрта — это для круглых. Познакомь меня лучше с мамой…». Как и чем смог Котик к маме подластиться — не узнается никогда. Но неподступный замминистра, представь, пошёл на попятную. И как! Пока Петюня землю в Поволжье рыл, а пятикурсники зарились хоть на какие задавленные песками и пламенной враждой страны, Котик расквартировался в доме, что над метро «Маяковская», и готовился с молодой в Париж… Да-да, и не каким-то портфеленосцем, а в полномочной должности пресс-атташе. Что вы на это скажете, Кузин?
— Не знаю, — почесал голову Кузин. — Меня так наоборот, в Корею послали за то, что дёру дал от одной штабной дамочки.
— Можно ли сравнивать! — пожурил Иван. — У Котика выбора не было. Да и меня он, честно говоря, спас. Мёрзлый вернулся с полным досье. Даже фото пулемётной «вдовы» прихватил, мерзавец. И пшик! Свадьба Котика прекратила дело. Гусяев не мог меня тронуть, не задев зятя Кубасова. Но мою «помощь народам Поволжья», он навсегда запомнил, и через Полгода мне дали «ищи ветра в поле» — свободный диплом. Ну, а Котик — в Париж, город контрастов…
— А знаешь, Иван, здесь ведь не хуже, — поднялся, зашевелил плечами Кузин. — И тут контрасты найдутся, ежели поискать. От этих сигар трассирующих меня просто тошнит. Айда в город? Сигарет купим, то да сё, мы ж в кустики заходить не будем…
— И я с вами, — подал голос Славушкин. — Я тоже курить хочу.
— Принесём, — пообещал Кузин, настроившись на поход как на дело решённое.
— Да что я вам, инвалид? — забузил Славушкин, разбудив тем Чанова. — Что я, пострижен не так или рыжий?
— Да тише ты! Весь колхоз поднимешь, — шёпотом пригрозил Кузин.
А из ванной комнаты вновь донеслось:
— Водички!.. Сиропчику, Маша!..
— А, чёрт! — ожесточился Кузин. — Славушкин, дай зануде стакан ликёру… Да нет же, зелёненького, чтоб до утра не петюкал.
— Запросто, — сказал Славушкин, набухал полный бокал и унёс в ванную, откуда послышалось вскоре буль-буль, кха-кху и «Маша, грелку!».
— Капризный, гад! — доложил Славушкин, возвернувшись. — И половины не выпил. Может, огреть его чем-нибудь?
— Стыдитесь, Славушкин, — шёпотом укорил Иван. — Вы же воин-освободитель. Налейте нам всем минералочки и по таблеточке, по таблеточке…
С этими словами он кинул в бокал зелёную пуговку «Брома-зельтер» и, когда вода забурлила, присовокупил:
— Освободителям надо выходить в город трезвыми…
— Тогда и я с вами, — ожил нежданно Чанов. — Я совершенно очухался. Таблеточкой малость подзаряжусь и — хоть куда ой-ё-ёй…
Искатели сигарет высунулись на арочное кольцо и как бы ступили в кирпичную пасть остывающей печки. Пасть обдала их пряным запахом пирога с корицей, шафраном, бадьяном и ванилином. Тонкий аромат рома они не усвоили, поскольку сами были пропитаны изнутри.
— Батуми! — оценил печку Чанов, принюхавшись.
— Анчурия, — уточнил Иван, вглядываясь в смутные очертания часового, устроившегося калачиком на нижней ступеньке забежной лестницы. Уложив в головах автомат, доброволец-синерубашечник расшнуровался и облегчённо спал, насвистывая себе колыбельную носом. Возле ног его была сложена кучка камней и на ней, шнурками играя, ползал пальмовый краб, жёсткий и маленький, как морская кокарда.
Тишина. Темнота. Идиллия. Но только взялся бесшумный квартет с крыльца сползать, как над крышей, в кроне фруктового дерева заверещала несусветная птица, обиженная, наверно, метким камнем припасливого милисьяно, утомлённого митингами и не желавшего слушать трели пернатых.
Часовой встрепенулся, протёр глаза и загоношил:
— А донде? А донде?!
— На кудыкину гору, леший тебя побери! — не сдержался Иван. Но тотчас нашёлся — сунул всклоченному спросонок мулату три доллара, после чего заговорил со стражником на островном языке.
Часовой оказался на диво понятливым и услужливо взялся довести квартет до такси. Наладить господ офицеров на неотложное удовольствие для него было не в долг, а в радость. И словоохотливо, сверкая во тьме перламутровыми глазами, он в пользу заждавшихся пояснил, что песо в стремительном беге революции естественно похудело вчетверо. Так что в ночном Pajaritos[15] — душевно рекомендую, сеньоры! — мучача за турникетом, цветная ли белая, обойдётся всего в пятьдесят центов в разовом пользовании, и доплаты за скорость не требуется, ну, разве что четверть доллара на кокосовые орехи… Иван мысленно разделил сто подкожных долларов на пятьдесят центов и ужаснулся. Ему стало искренне боязно за пусть железное, намотанное гарнизонными турниками и воздержанием, но всё же человеческое здоровье товарищей.
«Если шнапс не отнимет деньгу, арифметика их погубит», — затревожился он уже в такси, и теперешняя затея стала его тяготить, коробить.
Отступать было поздно. Канареечное такси резво протискивалось в переулках красного квартала, людного, залитого огнями опознавательных фонарей. Ночной район жил открыто, распахнуто. Люди входили и выходили из заведений будто пассажиры из утреннего метро, правда, не вскачь, не ощупывая себя — тут ли пуговицы, цел ли бумажник — но бойко, споро и без оглядки на патрульных солдатиков, крайне радых, что им, образцовым стражникам, достался такой удобный пост.
Квартет напряжённо молчал, затруднённый выбором самолучшего фонаря. Нахальные зазывалы, казавшие им проворными жестами куда как понятное и последним артикулом выставлявшие большой палец вверх, обещая «Отлично, с присыпочкой!», — всё это как-то смущало и озлобляло маленько. Уж больно всё просто: руку протяни и возьми. И Чанов не стерпел, молвил охрипло:
— У нас интереснее. А тут вроде жены получается, только за деньги.
— Молчи, коли Бог убил, — сказал Кузин. — Твою и за деньги не согласишься.
— Не об том речь, — задумчиво внёс Чанов. — Я к тому, что их и поить, наверно, вусмерть не нужно, или как?