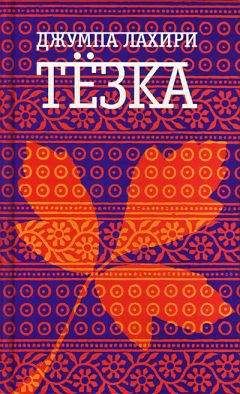Интересно, а где здесь находится почта? Что, если он попросит у Румы марку? Что она может заподозрить? Он, конечно, мог отвезти открытку назад в Пенсильванию и опустить в ящик там, но это выглядело бы глупо. Что же такое соврать Руме? Решено, он скажет, что ему надо отправить счет. Да, счет, это вполне уместно. В двух милях от их дома он видел почтовый ящик, он может кинуть туда открытку по дороге в аэропорт. Только пока надо ее спрятать. Ну и куда же? В этой комнате вообще ничего невозможно скрыть — сплошные гладкие поверхности, все углы на виду, даже шкаф практически пустой, только пара его рубашек висит на плечиках. Каждый день, он не знал, когда именно, Рума приходила в его комнату, чтобы заправить постель, забрать в стирку грязную одежду, вытереть капли воды на стенках раковины и душевой кабины, оставшиеся после приема душа. Он сначала решил положить открытку во внутренний карман пиджака, но ему было лень шевелиться. Немного поколебавшись, он вложил ее в путеводитель по Сиэтлу, лежащий на прикроватной тумбочке, а потом на всякий случай даже убрал его в ящик.
Он снова взглянул на спящего внука, его длиннющие ресницы и мягкий овал щек, и вспомнил своих детей, которые в детстве так же сладко спали. Внезапно он отчетливо понял, что ему не доведется увидеть Акаша взрослым человеком, вряд ли он доживет даже до окончания школы. Как жаль! Какая все-таки грустная штука — жизнь. Он попытался представить себе, как будет выглядеть подросший Акаш, когда он, наконец, займет эту комнату и начнет запирать дверь, как в свое время Рума и Роми. Наверное, внук вырастет красавцем, ведь он впитал лучшее от обеих рас. Э, ладно! Что толку грустить? Что будет, то будет, смерть неизбежна, он и так слишком долго живет на свете. И на его совести есть черные пятна — ведь он тоже повернулся спиной к родителям, когда сбежал от них на другой континент в надежде построить новую жизнь в Америке. Он бросил своих родителей, что уж тут играть словами. Он предал их во имя своих амбиций, во имя собственного благоденствия, которое сейчас стало ему так не важно. Вздохнув, он поцеловал мальчика в теплый лоб, разгладил пальцами золотой завиток над ухом и выключил свет, погрузив комнату в полную темноту.
В субботу утром, за день до отъезда, отец закончил свои посадки. После завтрака он повел Руму на экскурсию. Кусты были еще совсем маленькие, посажены довольно далеко друг от друга, а земля вокруг них засыпана мульчей, но отец сказал, что они должны вытянуться, и показал рукой, до какой высоты они вырастут к следующему лету. Он объяснил Руме, как надо за ними ухаживать, сколько воды требуется выливать под корни и что делать это можно лишь после захода солнца. Он показал ей место под крыльцом, где приготовил бутылку с жидким удобрением, которое время от времени нужно добавлять в воду для полива. Рума слушала его очень терпеливо, согласно кивая головой, но думала о своем и плохо следила за ходом его объяснений.
— Почаще проверяй, чтобы не было жуков, — сказал отец, снимая насекомое с листа и сбрасывая его на землю. — Гортензия в этом году не будет обильно цвести. Цветы будут голубые или розовые в зависимости от кислотности почвы. В дальнейшем тебе придется ее подстригать.
Рума кивнула.
— Твоя мать всегда любила гортензию больше других цветов, — продолжал отец. — По крайней мере, в этой стране.
Рума взглянула на кустик с большим интересом. Раньше она этого не знала.
— Следи за тем, чтобы помидоры не падали на землю. — Отец нагнулся, чтобы поправить хрупкий стебель. — Видишь, я их подпер довольно основательно, но, может быть, придется подвязать еще раз — повыше, когда стебли вытянутся. Ни в коем случае не давай почве пересыхать. Если на улице очень жарко, можно полить их и два раза в день. А если начнутся заморозки, а томаты еще не созреют, собери их, заверни в газету и положи в темное место — они, что называется, дойдут. Да, и срежь стебли дельфиниумов перед зимними холодами, тогда на следующее лето они будут лучше расти.
— Может быть, ты сам сможешь это сделать, — тихо предложила Рума.
Отец неловко поднялся, держась рукой за бедро. Он снял бейсболку и вытер лоб тыльной стороной ладони.
— Я не смогу, я же отправляюсь в путешествие. Я уже купил тур.
— Я имею в виду, когда ты вернешься из своего путешествия, баба.
Отец поднес руки к глазам и внимательно оглядел ногти с въевшейся вокруг них чернотой. Затем поднял голову и окинул взглядом сад, деревья и лужайку.
— Ты живешь в хорошем месте, Рума. Мне нравится твой дом. Только это твой дом, а не мой.
Рума ожидала сопротивления, поэтому продолжала говорить:
— Ты мог бы занять весь нижний этаж. И конечно, ты мог бы ездить во все эти путешествия, мы бы тебе совсем не мешали. Акаш, — обратилась она за поддержкой к сыну, — а что ты скажешь, если даду останется у нас жить? Ты будешь рад?
Акаш в восторге запрыгал по бассейну, стреляя в их сторону водой из резинового дельфина. Он отчаянно закивал головой, выражая полное согласие с такой прекрасной идеей.
— Конечно, я понимаю, это серьезное решение, — продолжала Рума. — Но для тебя ведь так будет лучше, разве нет? Для всех нас. — Она не замечала, что по ее лицу текут слезы. Отец продолжал стоять, не подходя к ней, не делая никаких попыток ее утешить, просто ожидая, когда она успокоится.
— Знаешь, я не хочу стать тебе обузой, — проговорил он наконец.
— Ты не станешь. Наоборот, ты будешь такой поддержкой… Пожалуйста, баба, не надо принимать решения сейчас, просто обещай, что подумаешь над моим предложением.
Он поднял голову и внимательно взглянул ей в лицо. Тень грусти промелькнула в его глазах, но он кивнул головой.
— А хочешь, мы поедем в Сиэтл сегодня? — предложила Рума. — Последний день надо отметить. Хочешь, сходим в ресторан?
Отец немного оживился.
— Да, как насчет прогулки на катере? Или на этом вашем пароме? Мы еще успеваем?
Дочь ушла в дом, чтобы переодеть Акаша и посмотреть расписание паромов, и внезапно ему стало невыносимо оставаться в этом доме — последующие двадцать четыре часа показались вечностью. Но он успокоил себя тем, что завтра в это время уже будет сидеть в самолете и лететь домой, в Пенсильванию. А еще через две недели он прилетит в Прагу, и миссис Багчи поцелует его в щеку, а по ночам будет засыпать рядом с ним. Конечно, он понимал, что дочь предлагает ему переехать к ней не ради него, а ради себя. Он был ей нужен сейчас, как никогда раньше, и именно поэтому ее предложение так расстроило его. Часть его души (совесть, что ли?) настаивала, чтобы он помог дочке в трудную минуту, но остальное «я» отчаянно сопротивлялось. Он прожил с ней целую неделю, и, хотя ему было здесь вполне комфортно, общение с Румой только утвердило его в решении и дальше жить одному. Не желает он вновь становиться частью семейной жизни, ни своей, ни чужой, — его в дрожь бросает от одной мысли, что он может опять погрузиться в пучину бесконечных выяснений отношений, разборок, обид и претензий! Не хочет он жить и в большом доме, который будет постепенно заполняться не нужными никому вещами, вещами, от которых он недавно с таким трудом и болью избавился, — всеми этими книгами, одеждой, фотографиями, сувенирами. Таков закон жизни — до какого-то срока она развивается, растет, набухает. Но надо уметь вовремя преодолеть стремление к энтропии, очистить свою жизнь от лишнего мусора, и он уже достиг этой черты.
Мальчик был единственной зацепкой, искушением, но он знал, что малыш скоро забудет его. А для Румы его присутствие все равно оставалось бы вечным напоминанием о том, что матери ее уже нет в живых и что больше никто на свете не будет любить ее так же беззаветно. Когда он наблюдал за тем, как дочь бегает по дому за Акашем, переодевает его, кормит, моет и убирает за ним, он вспоминал, насколько моложе была его жена, когда у них появились дети, — практически девочка! Когда жена достигла возраста Румы, их дети были уже подростками. И по мере того как дети росли, они все меньше напоминали родителей — они и говорили по-другому, и по-другому одевались, они казались ему чужими, иностранцами, незнакомцами, у них даже волосы были другой консистенции, и руки и ноги — другой формы. Как странно, что именно во внуке он вдруг увидел отражение себя — генетическую реконструкцию, продолжение своего рода, плоть от плоти, так сказать. А ведь внук-то только наполовину индус, и даже фамилия у него — американская.
А когда его дети приезжали из колледжа, как тяжело им было оставаться дома, как они скучали по своей только что обретенной свободе! Как они рвались назад, и порой грубили жене, да и ему тоже. Жена тогда часто плакала, страдала, не понимала, за что же ее так презирают? Он-то сам вида не подавал, но тоже переживал. В то время, глядя на ожесточенные лица детей, он вспоминал их в младенческом возрасте, беспомощных и жалких, лежащих на его руках, полностью зависимых от него, — тогда они с женой были для детей целым миром, как Рума для Акаша сейчас. Но скоро, так скоро дети вырастают, границы их мира расширяются, и вот уже родители представляются им чем-то аморфным, связь с ними слабеет, а иногда и вовсе рвется. Такое же будущее ожидает Руму — ее дети станут для нее незнакомцами, чужими. Порой у него сжималось сердце от жалости к ней, но он знал, что защитить ее от жизни он не в состоянии. Он не мог защитить ее от разрушений, которые неизбежно несло в себе время, как в семейной жизни, так в других областях. И он не хотел делиться с ней печальным выводом, к которому его привела сама жизнь: вся эта затея с женитьбой, витьем гнезда и выводом птенцов, хоть иногда она ему даже нравилась, с самого начала была обречена на провал. Вот к такому заключению пришел он на старости лет… Впрочем, возможно, что это — обычное брюзжание усталого старика. Старика, которому опять хочется стать ребенком.