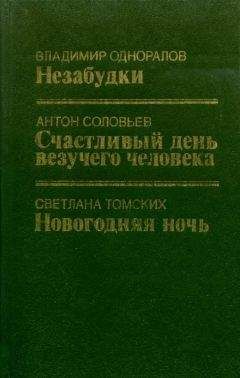— Я хочу вам подарить пса. Это мировой пес.
Пацаны разглядывали Арбата. Решалась его судьба. Он жмурился довольный и вилял хвостом.
— Какой-то он у, вас туберкулезный, — решил пацан почему-то.
Неожиданно Арбат заскулил: он потерял своего хозяина. А тот, не оглянувшись ни разу, уже спускался к висячему мосту.
— Да он еще маленький. Вырастет — во будет псина! Берите — даром ведь!
Это обстоятельство, видимо, разрешило сомнения.
— Ладно, заметано, — по-хозяйски распорядился чернявый, принимая поводок. — Может, на что сгодится.
— Вы его не обижайте, — крикнул мужчина уже с висячего моста. Пацаны стояли плотной кучкой, и Арбата не было видно.
И вдруг щенок громко заскулил. Казалось, он зарыдал вслед своим удаляющимся хозяевам…
Отец догнал сына уже далеко за мостом: тот углубился в реденький соснячок, отделяющий реку от безликих многоэтажных коробок. Мальчик шел так же понуро, не поднимая головы.
— Ну, вот и все, — нарочито бодрым голосом произнес отец заготовленную фразу. — Арбат в надежных руках.
Мальчик не отозвался. Неизвестно, слышал ли он сказанное.
— Ну, не переживай так, сынок. Мы купим собаку. Настоящую, породистую. Но не сейчас. Вот получим квартиру и купим. Я тебе это обещаю. И ты назовешь его Арбат, Буян, Дозор — как захочешь…
Мальчик вдруг посмотрел на отца, и отец осекся. У сына в глазах была мука; таких глаз у него отец не видел никогда.
Вечером, когда погасили свет, мальчик лежал на своей раскладушке, зарывшись в подушку лицом. Он плакал тихо-тихо, никто этого не слышал. И когда заснул, подушка была мокрой от слез.
— Смотри: еще показываю. Усекай: хх-ух! С ударом выдыхаешь воздух. Да не так! Сколько тебя учить! Не дергай рукой, а бей. Жестко с разворота, корпусом. Всем корпусом, нога тоже в работе. Оп! О-оп! Работай!..
Два пацана лет тринадцати-четырнадцати — отрабатывали боксерские движения. Пыхтя, они старательно утаптывали зеленую майскую травку. Один крупный, черноволосый с большой головой и короткой стрижкой был учителем. Второй — светлый тонкий и прозрачный — учеником.
— Ну давай апперкот. Король-удар. Бьешь снизу от пояса и как бы зачерпываешь, зачерпываешь. Раз! раз!
Черноволосый круговым движением «зачерпывал» воздух, поднося кулак под нос своего хилого партнера. Тот моргал и смущенно улыбался.
— Да не боись, не боись. Удар поставлен четко. Не задену. — Хоп! — кулак повис прямо под носом светлого. — Апперкот! — сказал он смачно. — Вырубает напрочь. На! И отдыхай на полу. А рефери: раз, два, три, четыре, пять… аут!
Черноволосому нравилась его роль: он упивался своей ловкостью. Его неповоротливый товарищ пытался повторить «король-удар».
— Да не так, не так! Как я тебя учил? Локоть прижат, движение плавное, круговое. Э-эх, плоховато получается. Не каждому дано, Сашок, не обижайся.
Сашок старательно повторял удар, но кулак его то не доходил, то пролетал условную горизонтальную линию, прочерченную в воздухе рукой учителя и как бы в нем повисшую, на уровне подбородка. От усердия или от беспомощности у него выступали на глазах слезы — дань неловкости и слабости.
— У меня получится, я еще дома потренируюсь, — тихо сказал он. — Пойдем, Андрей, опоздаем.
— Ладно, пошли. Боксист!.. Тебя бы на лапах[2] потаскать — быстрей бы научился. Меня тренер всегда на лапах таскает — видать, чует во мне перспективу. Всех — на мешки, а меня — на лапы. По полчаса гоняет. Вот школа! Пошли, сейчас посмотришь, как по-настоящему бьют…
Они подняли с травы свои куртки и перелезли через штакетник — не идти же к выходу из парка вкруговую, когда клуб — вот он, рядышком. Этажерка-девятиэтажка — целая деревня может разместиться в таком доме — первая в нескончаемом однообразном их ряду. И клуб тут же, на первом этаже. Пока на их микрорайон единственный. И неповторимый…
— Вот в этом фильме четкий бокс, — Андрей меж тем заливал. — Я его два раза смотрел. Старый фильм…
— Там ведь профессиональный бокс, фильм-то американский.
— Американский, вроде. Но бокс там четкий. Вот так: на! на! на! — и он не сильно, но резко саданул своего приятеля в живот. Тот охнул и отскочил в сторону.
— Да не боись. Эх, чухан. Какой же из тебя, дистрофана, боксист? Че ты сконил?
— Я не сконил, ты просто неожиданно ударил.
— Да я и не ударил. Если бы я тебя, гнилого, ударил, ты бы счас отдыхал. Я ведь тебя учу немного, не обижайся. Понял? Натаскаю чуток на апперкоте, хуках, глухой защите, тогда и замолвлю словечко тренеру. А пока — мотай на ус. И главное, не кони.
Андрей снисходительно смотрел на товарища. Вот он, Андрей, идет сильный, спокойный, в себе уверенный. Под курткой — желтая олимпийка, под олимпийкой — мышцы. А этот что — гнилой. Дистрофан, а в боксеры рвется; пристал: познакомь да познакомь с тренером… А как познакомить. Он, тренер, и смотреть не будет на него, чухана. Но обещал, как-никак друг детства, вместе выросли, вместе ходят в один класс — седьмой «б»…
В фойе клуба было сумрачно и пусто. Фильм старый, сеанс дневной.
Буфет — на клюшке. А пить хотелось до одури. Урок бокса выгнал из них с потом запас воды. Оставался туалет, там был умывальник. И вода, холодная, прекрасная вода.
Туалет внизу: лестничный марш за бархатной портьерой, вниз и налево. Спустились по лестнице почти на ощупь — глаза долго привыкали к полутьме после майского солнышка.
В углу курилки мерцали две красные точки: две фигуры маячили на подоконнике. Внизу, около батареи, чернели пивные бутылки — пустые или полные — не поймешь. Андрей с Сашей направились было к крану, как вдруг раздался окрик. Резкий, властный:
— Стоять!
Они повернулись, голос показался знакомым. Замерли в нерешительности, приглядываясь к курившим.
Они их узнали.
Один — Афонас, учился в их школе, годом старше, в восьмом. Личность известная — Саша и Андрей помнили, как его на общешкольной линейке года два назад исключали из пионеров. С него торжественно сняли галстук, старый-престарый, почти расползшийся с бахромой. На галстуке черной пастой было написано по-английски «битлз». А еще он избивал одноклассников да сшибал мелочь, выданную ребятам родителями на завтраки…
Второй — Лысый. Был он патлат, этот Лысый, но кличка помнилась из тех еще времен, когда этот Лысый тоже болтался все в той же школе, единственной в микрорайоне, а потом куда-то запропал. Говорили, что «раскрутился на спец», то есть попал в спецшколу для малолетних правонарушителей.
— Кто такие? — это Афонасу вздумалось допросить вновь прибывших.
— В кино вот пришли… — красноречие Андрея вдруг бесследно испарилось, пропало и все тут…
— Ты, длинный. Подь сюда! — приказал Афонас, восседавший на подоконнике, как на троне.
И вдруг Андрей повернулся и пошел. Пошел быстро, к выходу. Слышно было, как он споткнулся на полутемной лестнице.
— Один свалил, — констатировал Афонас. — А ты че? Кино смотреть хочешь?
— Да, — ответил Саша.
— Подойди ближе.
Саша подошел.
— Кто это был?
— Я его не знаю.
— Уши трешь. Все ты знаешь, бычара. — Афонас приглядывался к Саше. — Тебя я знаю… Откуда он? Колись, не то на пинках вынесу!..
Афонас щелкнул «чинарем» в потолок, посыпались искры; спрыгнул с подоконника. Он был на полголовы выше Саши. Лысый невозмутимо курил, наблюдая за бесплатным представлением.
— Значит, серьезно?
— Да.
Афонас ударил резко, не замахиваясь. Удар пришелся в нос, и на секунду оглушил Сашу. От резкой боли и обиды из глаз Саши брызнули слезы, а из носа — кровь. Он кинулся на Афонаса, но не успел ударить. Лысый, спрыгнув с подоконника, опередил Сашу ударом в ухо. А потом с силой пнул в пах. У Саши поплыло перед глазами: ненавистные рожи, как бы увеличиваясь, вытянулись в ширину, как в кривом зеркале или забарахлившем телевизоре. Он согнулся, потом сел на корточки у стены. Те двое подошли ближе; он чувствовал их дыхание. От них несло табаком и свежим пивом. Саша заметил, как Лысый снял с пальца левой руки перстень — рондолевую печатку и насадил на безымянный палец правой. Он проделал это не спеша, торопиться было некуда.
— Скажешь? Последний раз спрашиваем, — какой мягкий и вкрадчивый у Лысого голос. Не хриплый прокуренный, как у Афонаса. Сглатывая и сплевывая соленое, наполнявшее рот, Саша выдавил:
— Не знаю.
Последнее, что он увидел, это замах Лысого. Неторопливый, нарочито небрежный. И перстень блеснул у него на пальце…
…Струя воды лилась ему на лицо, на живот и грудь; и это было приятно. Холод заглушал боль. Афонас и Лысый поддерживали его с обеих сторон, совали его голову под кран. Увидев, что он ожил, отступили. Саша выпрямился. Достал платок. Кровь лила из рассеченной верхней губы, смешиваясь с водой.